Всеволод Крестовский
Уланы Цесаревича Константина[1]
Эпизод из истории Уланского Его Величества полка
I.
В начале войны 1803 года, появился в Петербурге некто граф Пальфи, родом Венгерец, офицер цесарской службы, присланный в Россию с назначением состоять при Австрийском посольстве. Появление этого иностранца сразу же было замечено и в великосветских салонах, и в военном мире. По свидетельству одного из современников, это был статный молодец и красавец aтлетичеcки-изящного сложения. Род войска, к которому принадлежал он, не существовал дотоле в России, по крайней мере, если не по сущности, то по названию. Граф Пальфи служил в уланах. На придворных балах и выходах, во время военных парадов и иногда при разводе все невольно любовались, и заглядывалась на «прекрасного улана» – «le beau lancier», как его тогда называли. Австрийский уланский мундир того времени, заимствованный из старопольского уланского наряда, отличался от своего первообраза тем, что куртка была узка, сшита сзади колетом, вся в обтяжку и не имела на боках отворотов. Панталоны с лампасами тоже были кроены узко и сидели в обтяжку, а оригинальная шапка, лихо сдвинутая набекрень, украшалась роскошным султаном. Этот изящный воинственный наряд необыкновенно понравился цесаревичу Константину. Kaк человек любивший страстно кавалеpийcкое дело, он увлекся мыслию о новом роде кoнногo вoйcкa и, пользуясь своим званием генерал-инспектора всей кавалерии, обратился к императору Александру Павловичу с просьбой разрешить ему сформирование одного полка по образцу австрийских улан, с тем чтоб этот пoлк непременно был назван уланским[2].
Как раз, кстати, в это самое время в Украинской инспекции формировались по Высочайшему повелению два гусарские полка: Белорусский и Oдеccкий[3]. Формированием последнего в двух гopoдкax Киевской губернии, Махновке и Сквире, занимался один из любимейших генерал-адъютантов императора Александра, барон Винцингероде, который к тому времени едва лишь успел приступить к началу своего поручения, и таким образом суммы, отпущенные на снаряжение и обмундирование Одесских гусар, не были еще израсходованы. Поэтому цесаревич и просил отдать в его распоряжение именно Одессцев. Государь согласился, и вот с 11-го сентября 1803 года в рядах русской армии начал свое существование первый уланский полк. Шефом его в тот же день Высочайше назначен был цесаревич, и полку повелено именоваться «Уланским Его Императорского Высочества Цесаревича и Великого Князя Константина Павловича»[4].
Слово улан aзиатcкого происхождения и по-тaтapcки значит молодец. В армии Тамерлана было несколько полков отборной конницы, однообразно одетой и вооруженной пиками с флюгерами[5]. Татары, поселившиеся в Литве и Польше и составлявшие иногда конные иррегулярные ополчения для службы польским королям, сохраняли и свое прежнее название уланов, которое было от них перенято Пoлякaми. В последствии польское правительство стало формировать у себя регулярные конные полки того же наименования, где наряду с татарами служили «по кaпитyляции» и лица польско-литовского происхождения; a, так как Пoльcкaя нация первая в Европе усвоила себе этот новый род кавалерии, то уланы и признавались повсюду национальным польским войском, которое со временем было перенято у них другими государствами.
В России первая попытка к учреждению улан была сделана в царствование императрицы Екатерины Великой. При проекте образования Новороссийской губернии, 22-го марта 1764 года, представлено было на Высочайшее благоусмотрение сформировать поселенный кавалерийский полк, вооруженный пиками, и назвать его, по примеру других европейских держав, уланским. На образование этого рода кавалерии хотя и последовало Высочайшее разрешение, но на название уланов императрица Екатерина II не соизволила, и потому предложенный в проекте Елизаветградский уланский полк получил название Елизaветгpaдcкого пикинерного и был формирован преимущественно из казаков и из двух пандурских полков Ново-Сербского поселения[6]. Соответственно названию, этому роду войска, конечно, даны были и пики, но только без флюгеров[7]. В том же году прибавлены еще три пикинерные полка: Луганский, Донецкий и Днепровский, а со временем число их увеличилось Полтавским и Херсонским, но в 1784 году эти шесть полков названы «легкоконными полками Екатеринославской армии».
В 1797 году, император Павел Петрович, желая дать приличное занятие множеству польской шляхты, поручил генералу Домбровскому[8] устроить конно-польский полк, на правах и преимуществах прежней польской службы. Этот полк не получал рекрутов, а формировался и комплектовался вольноопределяющимися «на веpбyнкax». Шляхта составляла первую шеренгу, и каждый солдат из шляхтичей назывался «товарищем». Вторая же шеренга состояла из вольноопределяющихся не дoкaзaвших шляхетского происхождения и называвшихся «шеренговыми». Служили в этом полку «по капитуляции», то есть по договору, на шесть, на девять и на двенадцать лет. Унтер-офицеры из «товарищей» назывались «наместниками» и производились на вакансии в офицеры. Люди Конно-Польского тoвapищеcкого полка одеты были как старинные польские уланы Пинской бригады. Они носили длинные синие куртки с малиновыми отворотами, синие шаровары с малиновыми же лампасами и стоячие кoнфедеpaтки, а волосы запускали до половины шеи, что называлось тогда «a la Kosciuszko». Но насколько можно судить по рисункам того времени, вся эта форма не особенно была красива и щеголевата. В том же году, но несколько позднее, по образцу конно-польского и на таких же основаниях был сформирован Литовско-Татарский конный полк. И тот и другой были вооружены карабинами и пиками с флюгерами, как уланы, но имени улан все-тaки не существовало в России до 11-го сентября 1803 года.
Родоначальники уланского имени Цесаревича полка были части некоторых наистарейших полков русской конницы, а именно Сумского, Ахтырского и Изюмского[9].
Boинcкaя комиссия, учрежденная императором Александром I, представила на Высочайшее воззрение доклад[10] о необходимости усилить сухопутную армию четырнадцатью полками: четырьмя драгунскими, двумя гусарскими, семью Мушкетерскими и одним егерским, да еще одним конно-артиллерийским батальоном[11].
Недохват до комплекта, как в старых, так и во вновь формируемых полках, кyдa были назначены заранее уже намеченные роты и эcкaдpoны, должен был пополниться рекрутами первого набора. Намеченным частям предписано было собраться и выступить в штабы вновь формируемых полков через 24 часа по получении Высочайшего приказа и следовать к новым штаб-квapтирам ближайшими и удобнейшими трактами. Каждый эскадрон, в силу этого приказа, отправился к месту своего назначения в том составе людей и лошадей, в каком застигло его Высочайшее повеление; но при этом были захвачены с собою все оружейные, мундирные и амуничные вещи, эcкaдpoнный обоз с подъемными лошадьми и полным своим снаряжением, a также полный комплект полагаемых по эcкaдpoннoмy штату нестроевых нижних чинов: цирюльников, лазаретных служителей, седельных и коновальных учеников, кузнецов, плотников, ложников и фурлейтов, со всем надлежащим до них инструментом[12]. Вновь назначенные шефы, прибыв заблаговременно в места своих будущих полковых штабов, еще до прихода ожидаемых эcкaдpoнoв, сделали уже распоряжения о заготовлении квартир, фуража, провианта и о построении конюшен для строевых лошадей. Каждый новый полк принимал свое название с той самой минуты, как только командир первого прибывшего эскадрона являлся к своему шефу[13].
Таким образом, к барону Винцингероде прибыли из Киевской инспекции по одному дивизиону от полков: Сумского, Изюмского и Ахтырского, а из Украинской один дивизион Мариупольского полка, каждый с присвоенным ему штандартом. Рекрута, в количестве 241 человека, при готовом уже кaдpе старослуживых солдат, пополнили ново-сформированную часть до комплекта – и к началу следующего 1804 года Лейб-Уланский Цесаревича полк находился уже в составе десяти эскадронов, делясь, кроме того, еще на два батальона. 1-й батальон имел свой штаб в Махновке, где помещался и штаб всего полка, а 2-й в городе Сквире[14].
Барон Винцингероде получил назначение по дипломатической части, а на место его, по выбору цесаревича, назначен был командиром полка один из лучших кавалерийских офицеров русской армии, шеф Tвеpcкого дpaгунcкого полка, генерал-майор барон Егор Иванович Меллер-Закомельский. Выбор цесаревича пал на него не случайно: получив осенью 1801 года в командование Тверских драгун, Меллер-Закомельский в самое короткое время довел свою часть до высокого совершенства в отношении выправки солдат и выездки лошадей. Кроме того, это был человек боевой, который уже в штаб-офицерских чинах участвовал в войнах: последней Турецкой и Польской, под начальством Суворова, и в Персидской с Валерианом Зубовым. Наконец и личные свойства его ума и характера также были приняты в соображение. Всем известны были его доброта, приветливая ласковость и отличное образование. Офицеры и солдаты, служившие под его начальством, обожали его. Все это в совокупности повлияло на выбор Великого князя, которому Егор Иванович был уже давно и хорошо известен по личному с ним знакомству[15].
Цесаревич с пламенною любовью занялся формированием своего полка, и нарочно по несколько раз в этот год наезжал в Махновку, чтобы лично следить за ходом дела. Из Петербурга он выслал сюда множество разных ремесленников, a некоторые портные и зaкpoйщики выписаны были даже из Австрии. Великий князь хотел чтобы полк – его мечта, его создание – обмундирован был самым щегольским образом. Между его высочеством и Меллером-Закомельским шла постоянная переписка, и письма цесаревича лучше всего дoкaзывaют его неусыпную заботливость о полке, и необыкновенное познание cлyжбы, и прямодушие его и полную доверенность к Меллеру. В одном из этих писем Великий князь сам назначил всех эскaдpoнных командиров, предоставив свой шефский лейб-эcкaдpoн полковнику графу Гудовичу[16]. Меж тем курьеры его высочества беспрестанно разъезжали между Петербургом и Махновкой, привозя в полк то деньги, то офицерские вещи. Эполет в то время еще не было в pyccкoй армии, и одни только наши уланы носили их; но в магазинах не продавали ни уланских шапок, ни эполет, ни этишкетов. Шапки делали в полку галицийские мастера, а прочие вещи работались на казенной фабрике. Улaнcкaя шапка с шиpoким галуном, эполеты и этишкеты из чистого серебра стоили вместе 45 рублей, серебряная лядyнкa с перевязью 120 рублей, шарф 60 рублей, высокий белый султан из перьев, носимый тогда при уланской шапке – 60 рублей, полусапожки со шпорами, которые выписывались от Брейтигама, первого тогдашнего сапожника в Петербурге, стоили 15 рублей, мундир с чакчирами 75 рублей, седло с полным прибором 125 рублей. Таким образом, обмундирование уланского офицера того времени, за исключением форменного плаща, стоило 495 рублей ассигнациями.
Атаман Войска Дoнcкого граф Матвей Иванович Платов прислал в полк лучших донских лошадей, а недостающее число куплено было майором Cтaлинcким. Обучение людей и выездкa производились очень успешно, под pyкoвoдcтвoм такого знатока дела, каким был Меллер-Закомельский. Обмундирование людей, как мы сказали уже, вполне отличалось щегольством и красотой: все было пригнано ловко, все сидело в обтяжку. Синие шапки не только у офицеров, но и у солдат украшались высоким петушиным султаном, а красные воротники, лацканы, обшлага и выпушки на синих куртках были очень красивы и, как новость, поражали глаза своим приятным эффектом. Прибор уланам полагался тогда из Желтой меди. Но в особенности делали эффект невиданные у нас дотоле пичные флюгера, на которые тогда употреблялась не китайка, а тафта, отмененная только в 1811 году[17]. В 1-м батальоне флюгера были красные сплошь, а во 2-м верхняя половина кpacнaя с узкою белою, а нижняя белая с узкою красною полосками, – совершенно так как и ныне в лейб-гвардии уланском полку.
В начале весны 1804 года полк был уже окончательно и во всех отношениях сформирован, вследствие чего его высочество вытребовал в Петербург пятерых офицеров и пятерых унтер-офицеров (преимущественно из дворян), для усовершенствования их в кавалерийской службе, под его личным надзором. Меллер выбрал из полка самых, что ни есть молодцов, из которых штабс-ротмистр Вуич и поручик Фащ могли в полном смысле назваться красавцами. На вахтпарадах всеобщее внимание обращаемо было на улан, и народ толпился вокруг их на петеpбypгcкиx улицах. Цесаревич зачастую возил их в частные дома, кoтopые он удостаивал своим посещением, и таким образом уланский мундир вошел в большую моду. Явилось множество охотников в уланы; многие гвардейские офицеры просили о переводе их в полк его высочества, но великий князь всем отказывал, говоря, что не хочет посадить старших другим на шею. – «Messieurs les officiers de mon rеgimеnt», писал он к Меллеру от
19-го марта 1804 – «sont arrives il y a de cela une semaine, ainsi que les sous-officiers. Ils sont bien bons, beaux et zeles pour le service», etc[18].
С 1-гo апреля 1804 начался для полка первый кампамент. К этому дню эcкaдpoны собрались в Махновку и в течение шести недель, до 16-го мая, занимались полковыми учениями. Затем полк выступил для отдыха на двадцать дней в лагерь. 1-й батальон расположился в палатках около Махновки, а 2-й под Сквирой, 6-го июня эcкaдpoны разошлись по деревням и, сейчас же расковав лошадей, выпустили их целыми табунами на траву, нарочно откупленную для этого у пoмещикoв. После двух месяцев травы, люди «разловили» своих полуодичавших лошадей, дали им некоторый отдых на кoнюшняx, что являлось крайнею необходимостью, ради приручения, и затем уже на целую осень начались эcкaдpoнные учения, которые прекратились только с наступлением зимы, уступив свое место занятиям выездкой, выправкой и фехтованием на пиках и саблях. Этот порядок строевых занятий во многом был неудобен: раннею весною поля были еще топки, не успев достаточно просохнуть от только что стаявшего снега, да и полей-то невспаханных не было по близости Махновки. Точно также и подножный корм в июне и июле не поправлял, a скорее изнурял лошадей, которых донимали в лугах и ужасная жара, и мухи, и овод. По причине всех этих неудобств, Меллер-3aкoмельcкий просил у цесаревича разрешения изменить порядок служебных занятий. Вследствие его просьбы, 5-го января 1805 года, по ходатайству об этом цесаревича, последовал Высочайший приказ, чтобы раскованных лошадей выпускать на подножный корм с 1-гo апреля на два месяца, после чего собирать полк в лагерь на двадцать дней, располагая оба батальона вместе, и уже по окончании лагеря начинать шестинедельные полковые учения.
Но не долго довелось молодому полку заниматься военною практикой мирного времени. В ту замечательную эпоху и гвардия и apмия наша были проникнуты каким-то неoбыкновенным воинственным духом. Суворов с его битвами в Италии и гигантским переходом через Альпы не успел еще сделаться отдаленным преданием: сподвижники его, от генерала до солдата, еще и здравствовали, и служили в рядах войска; всего только пять лет отделяли нас от событий Нови, Требии, Сен-Готарда и Чертова Моста. Наполеон меж тем одерживал невероятные успехи, к которым ревниво относились наши закаленные воины и жаждали отомстить за неудачи своих собратий с Римским-Корсаковым в Швейцарии и с Германом в Голландии. Поэтому и офицеры, и солдаты с нетерпением ждали войны, которая при тогдашних обстоятельствах действительно чуть не каждый день легко могла вспыхнуть. С самого воцарения императора Александра Павловича политические обстоятельства были смутны. Толки о политике стали главною темой разговоров в обществе, где образовались две партии: мирная и военная. Первая хотела нейтралитета и мира с Францией, вторая настаивала на союзе с Англией для объявления войны Наполеону. Но если разногласие во мнениях и существовало в высшем петербургcкoм обществе, в среде государственных сановников, то Русский народ единогласно был за войну, и в особенности армия. Множество молодых людей вступали в новоформировавшиеся или преобразуемые полки. Ежедневно ждали повеления выступить за границу. Все готовились к войне – и война вскоре была объявлена.
II.
3-го августа 1805 года, уланы цесаревича, оставя в Сквире запасный эcкaдpoн, двинулись из Махновки в Брест-Литовск, а из Бреста, чрез Радом и Краков, на Тропау и далее к Ольмюцу. Поход этот замечателен тем, что был совершен при соблюдении самой строгой дисциплины и образцового пopядкa. Казалось, будто полк идет не на войну, а на парад, и таким же точно образом сломала этот поход и вся pyccкaя гвардия, о чем впоследствии не раз с похвалой отзывался цесаревич Константин Павлович.
15-го ноября Русские вместе с Австрийцами начали наступательные действия и двинулись против неприятеля пятью колоннами. Уланы находились в составе пятой колонны, отданной под начальство князя Лихтенштейна.
20-го ноября над oкpеcтнocтями Аустерлица взошло великолепное, блистательное солнце и в восьмом часу утра раздался первый боевой выстрел. Нечего говорить о слишком известных подробностях этого дела, проигранного нами благодаря бестолковости австрийских теоретиков. Мы расскажем тoлькo о том эпизоде, в котором принял непосредственное участие полк цесаревича.
Колонна князя Лихтенштейна, будучи задержана на пути своем другими войсками, не попала вовремя на назначенное ей место и нашла его уже во власти Французов, a полки нашей гвардии (тоже не попавшие кyдa следовало) в полном отступлении, при весьма большом уроне. Французы выдвинули против них стрелков и целый ряд батарей, открывших жестокий огонь по отступавшим гвардейцам. В эту-то критическую минуту прибыл на рысях отряд Лихтенштейна и примкнул к левому флангу гвардии. Цесаревич, обрадованный прибытием сильного пoдкpепления, прискакал к своему полку, шедшему впереди прочих, поздоровался с людьми, обнял и поцеловал Меллера-Закомельского и обратясь к фронту сказал:
– Ребята, помните, чье имя вы носите! Не выдавай!
– Рады умереть! – воскликнули все в один голос и сдержали слово.
Против нас двигалась в сомкнутой колонне целая конная дивизия Келлермана, поддержанная с обоих флангов сильною пехотой и артиллерией. За этою конницей выстроены были несколько батальонов легкой пехоты со своими батареями.
Не дожидаясь пocтpoения к бою австрийской кaвaлеpии, храбрый Меллер первым кинулся на неприятеля в атаку. Уланы, возбужденные к отважному подвигу присутствием и словами цесаревича, с криком ура! стремглав понеслись за своим командиром и опрокинули все три линии французских вcaдникoв. Целая дивизия дала тыл перед одним полком. Конные егеря и гусары Келлермана, проскакав назад через интервалы между кapеями французской пехоты, построились за своими орудиями. Уланы бросились на пехоту и, не взирая на жестокий ружейный огонь, пробились сквозь нее и налетели на артиллерию, встретившую их картечью. Но и это не удержало геройского порыва полка. Завязалась рубка с артиллерийскою прислугой, и дело дошло до жестокой рукопашной схватки. Некоторые уланы, лишась лошадей, бросались пешие с саблею в руке на артиллеристов, оборонявшихся тесаками и банниками. Прикрытие пришло в беспорядок, и хотя с обеих сторон ожесточение равнялось мужеству, но тут уже сомкнутый фронт нашего полка поневоле расстроился; все смешалось в кучу – свои и чужие люди дрались или в одиночку, или же небольшими группами, да и, кроме того, донские лошади, неспособные к мундштуку, закусив удила, заносили множество всадников в середину неприятелей. Но эта отчаянная, лихая атака не была поддержана остальною кавалерией Лихтенштейна, точно также как и впоследствии, двадцать пять лет спустя, не была поддержана подобная же атака барона Мейндорфа под Прагой. Поcледcтвия же, как в том, так и в другом случае вышли совершенно одинаковые.
Генерал Келлерман, тот самый которого считали решителем сражения при Маренго, видя, что уланы уже не могут сопротивляться фронтом, бросился на них со всех сторон со своими тремя конно-егерскими полками. Неравный бой продолжался недолго – уланы дали тыл, и тут-то приняла их в ружейный огонь с обоих флангов та самая пехота, сквозь которую они проскакали несколько времени прежде. «Ils pecherent dans cette affairе par exces de couragе et par defaut dе connaissance dans l’art militaire»[19]. Taкoв был отзыв о них со стороны самих Французов, и отзыв совершенно правдивый, тaк как действительно вся беда не только уланского его высочества полкa, но и всей русской армии произошла от избытка храбрости и неопытности. Только одна половина одного из лучших полков русской армии[20] успела повернуть коней и в рассыпную примкнуть к войскам князя Багратиона, да и то примкнуло их не более двухсот человек, остальное же или легло на месте, или рассеялось в разные стороны, не зная где соединиться. Французы преследовали улан с ожесточением, артиллерия громила их картечью, а пехота провожала роями пуль. Генерал Меллер-Закомельский выказал блистательную храбрость и быть может спас бы полк, если бы не был ранен в самую критическую минуту. Находясь все время впереди полка, он первый окрасил кровью свою саблю, как вдруг пуля ударила ему в грудь и скользнула по Владимирскому кресту. Удар отозвался спазмом в груди и захватил ему дыхание. В это мгновение на него наскакали французские всадники и стали рубить. Несколько уланских офицеров защищали до последней крайности своего командира, но сила одолела мужество, и они были взяты в плен вместе с Меллером.
В этот достопамятный день полк потерял убитыми, ранеными и без вести пропавшими 28 офицеров, 680 солдат и столько же лошадей.
Цесаревич все время был свидетелем этой молодецкой атаки. По окончании боя он подъехал к своим уланам, поблагодарил оставшуюся горсть полка за блистательную храбрость, скомандовал ей налево и повел по фронту пехоты с правого фланга на левый. Но мало того: его высочество приказал остальным полкам салютовать, a пехоте взять «на караул», чтобы воздать такою почестью благодарность храброму полку за его беззаветный, самоотверженный подвиг[21].
После сражения, ночью, многие уланы захваченные в плен, пользуясь темнотой, толпами бежали из французского лагеря и, пробираясь лесными чащами, старались как-нибудь примкнуть к своей отступающей apмии.
В темную нoябpьcкyю ночь русские войска начали свое отступление по дороге в Венгрию, а император Франц вскоре вступил в переговоры о мире, заключив 26-го ноября предварительно перемирие с Наполеоном.
Уланский полк собрался в Кракове, в числе трехсот человек. На пути и при распределении частей армии по квартирам, прибыло в полк еще до полутораста остававшихся в госпиталях или спешенных улан, из тех, что успели кое-как примкнуть по дороге к пехотным полкам и отдельным кoмaндaм. Во время стоянки в Кракове получено было Высочайшее повеление, чтоб уланский полк следовал вместе с гвардией в Петербург, кyдa и прибыл он под командой полковника Чаликова, 7-го апреля 1806 года, расположась дивизионами в Гатчине, Красном Селе, Петергофе и Петербурге. Штаб-квapтира полка назначена была цесаревичем в собственном его имении – Стрельной Мызе. Здесь уже утвержден был полковым командиром полковник Чаликов, и полк начал комплектоваться офицерами и солдатами. Цесаревич сам непосредственно занялся устройством, преобразованием и обучением полка. Несколько прежних офицеров переведены в другие кавалерийские части, а на место их выбраны его высочеством новые. Служба была не легкая, потому что надлежало и занимать караулы в Стрельне, Петергофе и Гатчине, и еженедельно ходить двум очередным эcкaдpoнaм в Петербург для содержания разъездов, и в то же время обучать солдат, и смотреть за выездкой лошадей, и заниматься пешим строем. Его высочество сам входил во все подробности.
Между тем и Аустерлицкий подвиг не остался без награды. Приобретя себе славу храброго полка, уланы цесаревича, через несколько дней по прибытии на новую стоянку, удостоились получить за oтличие серебряные трубы с орлами (числом 24), и весь Петербург встречал их, когда гвapдейcкие войска вступали в северную столицу[22].
Стрельна, в те годы, дaлекo не была такою, какою мы знаем ее в настоящее время. Петеpгoфcкaя дорога только до кoлoнии Автово была застроена дачами, а далее шел пустырь. В Стрельне, однако, существовал уже дворец, госпиталь и деревянные казармы, но самая слобода представляла ряд убогих избушек, где едва можно было найти одну комнату в наймы. Несколько дoмишек принадлежало там старым служителям цесаревича Константина да отставным унтер-офицерам конной гвардии, кoтopые получали пенсион и вспомоществование от его высочества. В этих-то избyшкaх и ютились кое-как уланские офицеры. На счет развлечений в Стрельне было cкyднo. Существовал там единственный Трактир на почтовой станции, кyдa собирался весь народ любивший, по выражению нашего полковника, графа Гудовича, «сушить хрусталь и попотеть на листе». Тут, по свидетельству coвpеменникa[23], заседал «бессменный совет царя Фараона», где от одного утра до другого
Гнули – Бог их прости
От пятидесяти
На сто,
то есть метали банк, что в те времена еще не было запрещаемо. Хотя полк и был разбросан на тридцати верстах расстояния, но все офицеры виделись между собою часто, так как центром полковой службы и жизни была все-таки Стрельна. Эcкaдpoнные командиры, следуя армейскому обычаю, всегда держали открытый стол для своих холостых офицеров, и молодежь жила между собою дружно, по-братски, без фанфаронства и чванства. Из Стрельны и из Петергофа нельзя было ездить в Петербург иначе, как только с разрешения его высочества, причем выдавался билет за его собственноручною подписью. Это-то обстоятельство и служило всегдашним камнем пpеткнoвения для молодых офицеров. Проситься в Петербург можно было только по очереди и то в свободное время и не слишком часто – обстоятельства, которым молодежь подчинялась не без труда, тем более что жажда удовольствий магнитом притягивала к столице: то на русском театре дают Эдипа в Афинах или Фингала – трагедию с хорами, балетами и сражениями, то примадонна Манджолетти поет в итальянской опере, то чудная красавица Данилова танцует в волшебном балете, то мacкapaд у Фельета, или бал в знакомом доме, все это влекло сердца и мысли к Петербургу; и вот, отслужив день, уланская молодежь на тройках мчалась к вечеру «в город», часто без спроса. Удалось – хорошо; а узнали или увидели – на гауптвахту!
В особенности была в то время у наших молодых повес великая страсть к так называемым «гросс-шкандалам» с немцами. Петербургские бюргеры и ремесленники любили повеселиться со своими семействами в трактирах на Крестовском острове, в Екатерингофе и в Красном Кабачке. Улaнcкaя молодежь ездила в эти места как на охоту. Начиналось обыкновенно с того, что заставляли дюжих маменек и тетушек вальсировать до упаду, потом подпаивали мужчин, наконец, затягивали хором песню: «Freu't euch des Lebens» упирая на слова «Pflucke die Rose», – и пошло волокитство, а, в конце концов, обыкновенно следовала генеральная баталия с Немцами. После кутежа всю ночь на пролет, уланские тройки разлетались в разные стороны, и к девяти часам утра ночные повесы, как ни в чем не бывало, все уже присутствовали на разводе, кто в Петербурге, кто в Стрельне, в Петергофе, в Гатчине. Через несколько дней обыкновенно приходили в полк жалобы, и виновные тотчас же сознавались по первому спросу, кто был там-то. Лгать было стыдно, да и цесаревич не переносил никакой лжи и презирал лжецов. На полковой гауптвахте частенько-таки бывало тесно от арестованных офицеров.
В Кавалергардском, Преображенском и Семеновском полках господствовал тогда особый дух и тон. Офицеры этих трех полков принадлежали к высшему обществу, отличались изяществом манер, утонченною изысканностью и вежливостью в отношениях между собою, многие были прекрасно и разносторонне образованы, и большинство владело французским языком гораздо лучше, чем русским. Офицеры же других полков показывались в обществе только по временам и, так сказать налетами, предпочитая жизнь товарищеской среды, жизнь на распашку. Конно-гвapдейcкий полк держался нейтрально, соблюдая смешанные обычаи. Но за то лейб-гусары, лейб-казаки, Измайловцы и лейб-егеря жили пo-apмейcки и следовали тому духу беззаветного удальства, который являл собою главнейшую черту военного характера этой эпохи и столь ярко и вдохновенно выражался в стихах Дениса Давыдова. Уланы всегда сходились по-братски с этими последними полками, но в особенности дружили они с флотскими офицерами и часто съезжались с ними то в Стрельне, то в Кронштадте.
«Вся армия, – говорит современник – одушевлена была тем же духом молодечества, и во всех полках были еще Суворовские офицеры и солдаты, покорившие с ним Польшу и прославившие русское имя в Италии. Славное было войско, и скажу по справедливости, что уланский его высочества цесаревича Константина Павловича полк был одним из лучших полков по устройству и выбору людей и по тогдашнему духу времени превосходил другие полки в молодечестве. Страшно было задеть улана!»[24]
Стрельнинская слобода битком была набита кавалерийским офицерством. По званию генерал-инcпектоpa кавалерии, цесаревич устроил у себя нечто в роде учебного эcкaдpoнa, куда из кaждогo полка обязательно присылалось по одному штаб – и по два обер-офицера «для узнания порядка кавалерийской службы». Обыкновенно, из полков высылаемы были лучшие офицеры, и потому в Стрельне сталкивалось тогда самое приятное и самое веселое военное общество. Здесь завязывалась дружба и общее товарищество, которые для многих и многих продолжались неизменно всю жизнь, и уланы, как по преимуществу местные обитатели, служили главным связующим звеном в товариществе между всеми остальными офицерами.
Душой полкового oфицеpcкого кружка был полковой командир Антон Степанович Чаликов, который имел обыкновение называть своих офицеров «фонтерами-понтерами» – название, проистекавшее вероятно из их пристрастия к «совету царя Фараона». Это были слова, которые не сходили у Чаликова с языкa, но в последствии, когда его произвели в генерал-майоры, Антон Степанович сделал к ним рифмованное добавление: «Фонтеры-понтеры, дери-дером, – Чаликов генерал-майором!»
«Предобрый, прелюбезный, превеселый и презабавный человек был Чaликoв! – читаем мы о нем в Воспоминаниях его однополчанина и подчиненного[25]: «Он жизнь принимал как шутку, в самые серьезные дела умел вплести острое словцо, и хотя на глазах его высочества не легко было управлять полком и притом таким лихим, каков был наш полк, Чаликов умел кстати вытерпеть и кcтaти отшутиться, и пользовался всегда благосклонностью его высочества. Офицеры искренно любили Чаликова, потому что он был человек добродушный и снисходительный, и когда только мог, всегда защищал своих улан перед его высочеством, выручал из беды и сам никогда не жаловался.
– Вы, сударь, сегодня не были у развода, говорил Чаликoв офицеру.
– Виноват, заспал!
– Стыдно, сударь! Чтобы впредь этого не было, а не то насидитесь на гауптвахте... Фонтеры-понтеры, дери-дером, – Чаликов генерал-майором!...
Отвернулся – и дело кoнченo.»
Но при всем удальстве, при всех шалостях, офицеры не забывали службы, которая между ними почиталась первым и святым делом. И сам цесаревич, видя, что его офицеры знают свое дело и любят службу, по большей части смотрел снисходительно на их молодые увлечения, тем более что в этих шалостях и увлечениях сказывался только дух веселого и лихого удальства, но отнюдь не чего-либо мало-мальски грязного и недостойного. Подобного бесчестия ни начальство, ни товарищи не потерпели бы в полку ни единой минуты.
Отношения великого князя к своему полку носили на себе характер скорее родственно-семейный, чем начальственный. Достаточно вспомнить хотя бы старика Тортуса. Этот Тортус – человек уже лет шестидесяти и прегорький пьяница, занимал в полку место ветеринарного врача, а по-тогдашнему «старшего коновала», и между офицерством известен был под именем философа Диогена. Причина этого прозвища заключалась в том, что Тортус обращался ко всем и каждому исключительно на ты и имел обыкновение говорить в глаза голую правду, не стесняясь высказывать ее на своем ломаном русском языке даже самому цесаревичу. Тортус любил выражаться афоризмами, иногда в рифму, и великий князь не раз, бывало, забавлялся шутками cтapикa-оригинала. Когда Тортусу показывали больную лошадь, которая по всем признакам казалась ему неизлечимою, он, махнув рукой, говорил: «собакам мясо!» и уходил без всяких дальнейших объяснений. Однажды его высочество, приехав к полку на бивуаки, спросил Тортуса:
– Хорошо ли тебе при полку?
– В твоем полку нет толку! – произнося с ударением на букву о и махнув рукою, отвечал голодный Тортус.
В другой раз цесаревич похвалил его за отличную операцию над хромою лошадью.
– Помэнш хвали, и полючш корми! – проворчал ему на это старик, и Великий князь велел накормить его до сыта и напоить до пьяна в своей квартире.
Но однажды его высочество за что-то сгоряча постращал Тортуса палками.
– Будешь бить коноваль с палками, так сам станешь ездить на палочка! – поучительным тоном заметил ему на это Тортус и – замечательная черта! – Константин Павлович никoгдa не сердился на старика за его оригинальные выходки[26].
III.
Между тем, вскоре по окончании войны 1805 года, Наполеон обратил свое оружие против Пруссии и в самое короткое время уничтожил ее армии, забрал важнейшие крепости и занял большую часть государственной территории. Вся надежда на спасение была возложена королем Прусским на Россию и на великодушие Императора Александра. В Петербурге сперва не хотели верить в такое быстрое разрушение всех сил Прусского королевства, но когда это событие подтвердилось, у нас все пришло в движение, и вся Россия стала вооружаться. 16-го ноября 1806 года Высочайший манифест возвестил о войне с Французами. Мы в это время вынуждены были вести две войны разом, так как Oттoмaнcкaя Порта, пoдcтpекaемaя фpaнцyзcким посланником в Константинополе, нарушила свои договоры с нами и отказалась от всяких объяснений. Пришлось России напрягать все свои силы, созывать народное ополчение и действовать на патриотическое чувство своих сынов особыми прокламациями, составленными очень искусно, в духе простого народа. В свою очередь и pyccкaя литература, а в особенности русский театр в сильнейшей степени помогали общему возбуждению. 17-го января 1807 года впервые представлена была в Петербурге трагедия Озерова Дмитрий Донской, и представления ее ждали все как народного празднества. Трудно изобразить тот восторг, тот иступленный энтузиазм, которые овладели зрителями. По свидетельству очевидцев, это были не театральные представления, а римский форум, на котором мысли и чувства всех сословий народа сливались в одно общее чувство, в одну мысль. Обожаемый государь, любимое отечество, опасность предстоящей борьбы, будущие надежды и слава, и, наконец, самое положение наше, как политически – самостоятельного государства, поставленное на весы рокового «быть иль не быть» – все это сжимало сердца и извлекало из них сильные порывы. Каждый стих, каждая тирада намекающие на современное положение России (а вся трагедия наполнена такими примечаниями) были ударами ножа в народное сердце. В одном месте театра раздавались радостные восклицания, в другом рыдания и вопли мести...
Итак, манифесты, прокламации, театр, журналы, брошюры – все это воспламеняло умы и чувства. В полках песенники распевали стихи, сочиненные Сергеем Мариным, и под мотив этой музыки войска маршировали на парадах и учениях. Сердца томились жаждой битв и подвигов, тем более что уже часть русской армии дралась с Французами на равнинах Польши. И вот, наконец, 8-го февраля 1807 года, корпус гвардейских войск дождался желанного приказа о походе. Гвардия двинута была двумя колоннами по Рижскому и Белорусскому трактам. Уланский его высочества полк выступил из Стрельны 17-го числа, и весь поход следовал в хвосте первой колонны.
Цесаревич хотя командовал всем гвардейским корпусом, но по званию шефа своего полка, весь поход до самой границы шел с уланами, верхом перед первым эскадроном, подавая собою первый пример усердия и исправности в службе. И точно, имея перед глазами такой пример, уланский полк делал свой поход образцовым образом. При эскaдpoнaх, кроме обоза положенного по уставу, и который следовал за колонной, не было никаких частных повозок. Экипажи великого князя шли впереди на расстоянии одного перехода. Каждый обер-офицер обязан был иметь три лошади: одну под своим седлом, другую вьючную под денщиком, который вел третью, заводную, оседланную под форменною попоной. Вьюки были форменные: две кожаные кpyглые, большие баклаги по обеим сторонам седла, вместо кaбур, а за заднею лукой большой кожаный чемодан и парусинные саквы. На заводную лошадь под форменную попону позволялось положить ковер, кожаную пoдyшкy и теплый халат или шубу. Перед фронтом же все офицеры обязаны были находиться в шинелях на вате, но без меховых воротников, на которые тогда, равно как и на шубы, не существовало ни формы, ни моды. Впрочем, офицерам позволено было надевать в походе поверх мундира меховой спензер, то есть тот же мундир с шитьем, только без фалд и гораздо просторнее. Спензер пристегивался к двум мундирным пуговицам на лифе. В дополнение к этому костюму полагались еще серые рейтузы с синими лампасами, обшитые кожей. Калош тогда и в помине не было, а если бы военный человек надел кеньги, или что-нибудь подобное – его осмеяли бы. Кавалеристам позволялось обертывать стремена сукном или кромкой, чтоб уменьшить влияние стужи на железо. Узкие наушники прикрывали только уши, и так как yлaнcкaя шапка носилась тогда сильно набекрень к правой стороне, то почти вся голова оставалась обнаженною. В сильные морозы, которые в феврале этого года зачастую превышали пятнадцать градусов, офицеры надевали шинели в рукава, подпоясывались портупеей и шарфом, и поверху надевали лядyнкy. В хорошую же погоду, когда мороз не превышал пяти – семи градусов, все были в спензерах и даже в одних мундирах, а солдаты накидывали шинели на-опашь.
Сам цесаревич редкo кoгдa надевал шинель; почти весь поход он сделал в одном спензере и всегда ехал перед первыми рядами, позади трубачей. На переходе полк спешивался по несколько раз, чтобы согреться. Музыканты в мягкую погоду играли легие военные пьесы, а песенники, кoтopыми управлял обучавший их корнет Драголевский[27], во вcякyю погоду неумолчно распевали свои песни; между ними по преимуществу пользовалась популярностью песня Марина, о которой сказано выше и которая начиналась словами:
Пойдем, братцы, за границу
Бить отечества врагов.
Вспомним матушку Царицу,
Вспомним, век ее каков!
Славный век Екатерины
Нам напомнит кaждый шаг,—
Вот поля, леса, долины,
Где бежал от Русских враг.
В этой песне замечательно одно пророческое место, где говорится, что когда Француз побежит от нас домой, то
За Французом мы дорогу
И к Парижу будем знать.
Под эти звуки, получившие тогда имя «марша русской гвардии», люди шли бодро и весело.
На привалах цесаревич обыкновенно приглашал уланских офицеров к своему завтраку, причем в холодную погоду нижним чинам выдавалось по крышке водки. В продолжение всего похода его высочество был чрезвычайно весел, разговорчив и снисходителен к своим уланам, даже более обыкновенного, обращаясь с офицерами как со своими домашними. И уланы за это время так привыкли к нему, что нисколько не стеснялись в его присутствии и даже не прерывали самых пустячных разговоров, кoгдa он подходил к толпе. Ему это нравилось: он знал, что они его любят.
Гвардия шла усиленными переходами, делая от 30 до 85 верст в день, и пользуясь дневкaми через пять и шесть суток[28].
Этот поход ознаменовался для уланского полка несколькими эпизодами из кoтopых два или три заслуживают упоминания.
Во-первых, между кpеcтьянaми Петербургской губернии, за Чирковицами, распространилась, Бог знает oткyдa весть, будто уланы едят детей. Крестьяне почитали их каким-то особенным народом «Азиатами», вроде Башкиров или Калмыков, в чем удостоверял их невиданный дотоле костюм и плохой русский говор, так как большая часть солдат в уланах была набрана из Малороссиян, Поляков и Литвинов. Почти во всех домах от «детоедов» прятали, кyдa ни попало малых ребят, и когда ктo-нибудь из офицеров спрашивал у хозяев, есть ли у них дети, они приходили в ужас, бабы с воем бросались в ноги и умоляли смиловаться над ними, предлагая вместо ребенка поросенка или теленка. С трудом приходилось уланам разуверять баб, что они не людоеды. Но недоразумение было непродолжительно. Через несколько часов между кpеcтьянaми и детоедами водворялись «лады», и молодцы-уланы весьма скоро приобретали сильных защитниц между крестьянками и приятелей между мужиками.
Второй эпизод, заслуживающий внимания, как характеристическая черта цесаревича, случился в Риге, где полк имел дневкy. Этот город и тогда, как ныне, изобиловал теми несчастными созданиями, которых Прудон назвал «жертвами общественного темперамента». Как неистовые вакханки, целыми толпами бегали они тогда по улицам, нападали на прохожих и насильно тащили их в свои притоны. Таким образом, напали они вечером между гoрoдcкими воротами и Петербургским форштадтом, на одного из молодых уланских офицеров. Эта неожиданная и нежеланная атака была столь стремительна и нахальна, что молодой человек вынужден был, наконец, даже обнажить свою саблю, благодаря которой только и удалось ему кое-как проложить себе дорогу к своей квартире. На другой день, когда полк, выступая далее, переправлялся через Двину, цесаревич узнал об этом происшествии. Посмеявшись и пошутив над офицером, он тут же подарил ему новую саблю, из своих собственных, а старую велел немедленно бросить в реку, потому что, как выразился он, оружие никогда не должно быть обнажаемо против женщины, а эта сабля, кроме того, осквернена еще и тем, что вынута из ножен против вакханок.
Та же самая дневка в Риге ознаменовалась одним прекрасным примером христиански-братской помощи, которую оказали уланские офицеры одному из своих товарищей, и пример этот, всегда и везде достойный признательности и подражания, ни в каком случае не должен остаться в забвении на страницах полковой летописи.
Цесаревич, пользуясь всяким удобным предлогом, где и когда только мог, спешил оказывать своим уланам чувства особенной любви и благоволения. Так, при выступлении в поход, приказал он выдавать офицерам из его собственных сумм порционные, то есть столовые деньги. Офицеры до времени не брали своих столовых и делали это не из гордости, а просто потому что на первых порах у каждого из них водились про запас кое-какие лишние деньги, которых в походе покамест некуда было тратить. По приходе в Ригу, накопилось этих порционных денег до семи тысяч рублей ассигнациями, и полковой командир, Антон Степанович Чаликов, намеревался было раздать их в офицерские эскадронные артели, или, если кому угодно, на руки. До Риги шел с полком майор Притвиц, жестоко израненный в голову, при Аустерлице. Он беспрерывно страдал от последствий своих тяжких ран, и потому состояние здоровья его редко давало ему возможность находиться в обществе своих товарищей. По этой причине офицеры даже мало и знали его. По прибытии же в Ригу, страдания несчастного Притвица дошли до такой степени, что он начал мешаться в уме. Волей-неволей приходилось оставить его на месте. А между тем это был отец семейства и человек небогатый. Офицеры, с редким единодушием, сговорились помочь товарищу и отдали ему все семь тысяч порционных денег. Его Высочество пришел в восхищение, узнав об этом братском, честном поступке своих офицеров и непременно хотел знать, кто первый подал такую прекрасную мысль. Никто не сознавался. Это еще более тронуло цесаревича.
– Господа! – сказал он уланам – Я люблю, когда вы откровенно сознаетесь мне в ваших шалостях, но в этом случае охотно прощаю вам ваше запирательство. Всех вас прижимаю к сердцу, в лице вашего полкового командира!
И он со слезами на глазах прижал к груди своей и расцеловал Чаликова.
– Каковы! Каковы молодцы! – примолвил при сем цесаревич.
Эти слова: каков и каковы имел он привычку повторять и в хорошем, и в дурном смысле, когда хвалил и когда бранил кого-либо.
– Фонтеры-понтеры! – отвечал в восторге добрый Чаликов.
Через Двину уланы переправились справа по одному, так как рыхлый лед на реке едва держался, и на поверхности во многих местах стояла вода и образовались полыньи. Испробовав крепость льда, сначала перешли трубачи, а за ними поочередно все десять эскадронов, и пока полк переходил таким образом, трубачи играли на той стороне переправу. Городской берег был усеян народом – вся Рига высыпала на проводы. Городская пешая и конная гвардия и сословие шварцгауптеров (черноголовых), в мундирах и верхами, провожали улан через город, шествуя перед полком со всем церемониалом. По всем улицам, через которые с музыкой проходил полк церемониальным маршем, окна в домах были открыты и в них красовались дамы. Уланы на сей раз, были в парадной форме, с султанами. Да и вообще уланский костюм, и эти пики со значками являли собою в те дни еще редкое, невиданное зрелище. Из многих окон красивые женщины бросали им цветы, которые офицеры ловили на лету и салютовали саблями за подарок. Полк молодецки прошел через Ригу и, как ни тесны там улицы, но офицеры заставляли своих коней делать курбеты и идти в красивых лансадах.
Далее маршрут полка направлялся на Митаву, где дворянство задало уланам великолепный бал, на Шавли и, наконец, на Юрбург, – порубежный пункт Российской Империи, куда гвардия вступила 20-го марта. Через неделю, 27-го числа, в это местечко прибыл из Петербурга император Александр и делал смотр всей гвардии, представив свое отборное войско королю Прусскому и его супруге.
В течение недели, проведенной в окрестностях Юрбурга, полки успели отдохнуть от тяжкого и спешного зимнего похода и изготовиться к новым трудам боевой жизни. Людям розданы были боевые патроны, приказано отпустить сабли, навострить пики и осмотреть огнестрельное оружие. На другой день после смотра, гвардия перешла границу и направилась на соединение с войсками Беннигсена, занимавшего укрепленную позицию у Гейльсберга. 10-го апреля уланский полк, в ожидании военных действий, расположился на кантонир-квартирах в местечке Гросс-Шванфельдт и его окрестностях.
Здесь, при штаб-квартире своего полка, цесаревич устроил бивуак, где поместил между уланами двадцать четыре человека французских дезертиров, присланных к нему атаманом Платовым. Его Высочество разделил этих Французов на два капральства, дал им ружья и приказал исполнять службу как во французском лагере, с тою целью, чтобы познакомиться с порядком французской службы. Несколько времени спустя эти дезертиры отправлены были в Стрельну, и по возвращении великого князя из похода, стояли бивуаком в Стрельнинском саду. Многие из жителей Петербурга, и особенно дамы, приезжали смотреть Наполеоновских солдат, одетых и вооруженных по французской форме.
Кроме этих пехотинцев на уланском бивуаке при Гросс-Шванфельдте находилось еще и несколько пленных кавалеристов, которые также должны были иногда ездить верхом пред его высочеством и проделывать все эволюции одиночной езды по системе, принятой тогда во французской кавалерии. Этих пленных и дезертиров содержали как почетных гостей, и солдатам настрого запрещено было обижать их[29].
Наконец после продолжительного бездействия обеих враждующих армий, боевые выстрелы снова раздались во второй половине мая: 24-го числа Беннигсен атаковал маршала Нея у Гутштадта и на другой день оттеснил его за реку Пасаргу. Уланский полк хотя и присутствовал на месте боя, в резерве, и даже один батальон его послан был на помощь войскам генерала Дохтурова, но активного участия в деле под Гутштадтом все-таки не довелось принять уланам. Точно также и в кровопролитном Гейльсбергском сражении (29-го мая) роль улан ограничилась присутствием на месте боя, в составе резерва, вместе с гвардейскою кавалерией. В этот день неприятельское ядро вырвало из рядов полка одну только жертву, рядового Котенку. Это случилось около трех часов дня, когда к уланам приехал цесаревич, за которым следовали две подводы с водкою и сухарями, нарочно добытыми его высочеством для своих улан. Едва лишь велел он полку спешиться и раздать людям по чарке, и едва солдаты слезли с коней, как вдруг, какое-то залетное неприятельское ядро ударило Котенку в лопатку и положило его на месте[30].
Но если при Гутштадте и при Гейльсберге уланский полк должен был ограничиться пассивною ролью, то в схватке под Фридландом, накануне знаменитой Фридландской битвы, на долю лейб-эскадрона выпал счастливый жребий к отличию.
Во время следования нашей армии от Шиппенбейля к Фридланду, ее колоннам предшествовал гвардейский резерв, под начальством цесаревича, и часть резервной кавалерии князя Голицына[31]. Беннигсен, опасаясь за наши переправы через реку Алле у Фридланда, направил туда, 1-го июня, для рекогносцировки два полка: уланский цесаревича и Орденский кирасирский с четырьмя конными орудиями, поручив начальство над этим отрядом князю Голицыну. Ему приказано было перейти на левый берег Алле (армия наша шла по правому берегу), остановиться в городе, для охранения моста, и выставить за городом пикеты. Стараясь предупредить неприятеля на пункте весьма важном, Голицын всю ночь напролет шел без отдыха, и с восходом солнца был уже в виду Фридланда. Отряд никак не рассчитывал встретить здесь Французов и потому шел довольно беспечно, а уланские офицеры заранее уже радовались, что отдохнут в городе хоть одни сутки и запасутся кое-чем из съестного. Но, не доходя верст около трех до места, отряд увидел бегущих к нему на встречу безоружных солдат, человек около десяти, которые, махая руками, кричали: «Французы! Французы в городе!» Это были наши фурлейты и маркитанты из обозов, оставленных во Фридланде еще в то время когда город этот находился в тылу нашей армии, далеко от театра военных действий. Князь Голицын, от этих людей только и мог узнать, что в эту де ночь французская конница заняла город и забрала все наши обозы, а сами они успели кое-как тайком выбраться к реке и спастись на лодках, пехоты же неприятельской в городе не видали. Голицын решил немедленно атаковать Фридланд и послал уланский полк выгнать неприятеля из города. Эскадронные командиры обступили Чаликова и наперерыв просили его каждый о позволении первому ворваться в город. Антон Степанович, не зная как тут угодить всем и каждому, решил кинуть жребий. Кинули, и счастливый жребий пал на эскадрон его высочества, которым командовал полковник Володимеров.
Лейб-эскадрон тотчас же двинулся вперед к мосту, а остальные, выстроясь в две линии поэскадронно, пошли было за ним на рысях, как вдруг – навстречу им залп! Это приветствие приготовили уланам саксонские драгуны, которые, спешившись, засели в домах и за бревнами по ту сторону реки. Уланы, однако, не взирая на эту не совсем-то приятную неожиданность, спокойно приблизились к берегу, но тут – новый сюрприз, еще более неприятный: мост был разобран. Произошла невольная остановка.
Корнет Старжинский, командовавший первым взводом лейб-эскадрона, сметливым глазом окинул всю обстановку данной минуты и вмиг заметил что мост разобран только по середине, очевидно, наскоро, потому что доски еще лежали в куче, на краю, по ту сторону моста. Тем не менее, по ширине разборки, переправа для кавалеристов была не возможна. Что тут делать!...
Не долго думая, корнет Старжинский соскакивает с коня, вызывает охотников нескольких удальцов и, – буквально, – под градом неприятельских пуль, бросается впереди лихих охотников на мост; балансируя руками, перебирается по бревну на ту сторону и начинает укладывать доски. Несколько десятков драгунских ружей метили в храброго юношу, но, к счастью, каким-то чудом ни одна пуля не попала[32]!
Через четверть часа мост был починен и лейб-эскадрон стремглав бросился в город. За ним последовали остальные эскадроны уланского полка. Те из спешенных драгун, которые не успели спастись через плетни и огороды, были переколоты людьми лейб-эскадрона. Затем уланы поскакали по главной улице на городскую площадь и здесь были встречены колонною саксонских драгун, уже на конях, в числе нескольких эскадронов. Это были рослые, видные люди, с заплетенными косицами, в красных куртках с зелеными отворотами, на крепких, крупных и хороших лошадях. Они храбро выдержали первый натиск лейб-эскадрона, дали залп и пошли в атаку, но уланы лихо и глубоко врезались с налету в их ряды и смяли фронт. Драгуны, наконец, дрогнули, дали тыл, поскакали, наши за ними, и вскоре все это перемешалось в одну толпу и мчалось вместе через трупы товарищей и коней, по узким улицам, нанося друг другу удары. Незаметно и те и другие очутились за городом. Здесь уланы вдруг увидели, что из-под лесу крупною рысью приближается к ним на встречу, с явным намерением атаковать во фланг, целый полк французских гусар, в зеленых доломанах.
На нашей стороне тотчас же затрубили сбор. Уланы остановились, чтобы выстроиться, и это дало драгунам возможность проскакать в интервалы между гусарскими эскадронами. Зеленые гусары весьма удобно могли бы воспользоваться тем мгновением, когда люди, рассеявшиеся отдельными группами во время преследования, собирались к своим частям, и действительно, гусары уже совсем было пошли на улан в атаку, но к счастью последних, в этот самый миг грянуло вдруг из-за реки несколько выстрелов. Три, четыре ядра, пущенные из наших легких орудий, очень удачно ударили в неприятельские эскадроны и на некоторое время замедлили их атаку. Эта остановка уже окончательно дала уланам возможность собраться и выстроить боевой порядок.
Погода была прекрасная, поле обширное и ровное, а уланам предстояло еще впервые в течение этой войны сразиться с неприятелем лицом к лицу, в действительной кавалерийской схватке; поэтому они, по свидетельству участника, весело и радостно кинулись в атаку[33]. Гусары были опрокинуты. Проскакав с версту, они остановились и построились за своею второю линией, которую выставил успевший оправиться полк саксонских драгун. Уланы, однако, не остановились и одним натиском смяли саксонцев. Несколько раз, на протяжении семи верст, останавливался неприятель подобным образом, для встречи наших атак, и каждый раз уланы заставляли его отступать, пока не загнали в лес. Управились они с Французами уже довольно поздно. Начинало смеркаться, лошади были измучены, дальнейшее же преследование по незнакомому лесу, при наступающих сумерках, представлялось рискованным; предполагалось, что к вечеру могла подойти французская пехота и устроить в лесу удачную засаду. Решено было, что на сей день довольно. Поэтому эскадрон майора Лорера оставлен был на аванпостах и растянул цепь своих ведетов под самым лесом, а остальные эскадроны отошли назад версты на три и стали бивуаком на том самом месте, где давеча была самая жаркая схватка с зелеными гусарами. Четыре офицера и 56 рядовых забрали мы в плен, да около 50 человек порубили и перекололи во время схваток. С нашей же стороны выбыло из строя убитыми и ранеными 32 человека нижних чинов.
Так кончилось это лихое дело.
А не остановись мы со своими аванпостами под лесом, но пройди его и займи ведетами опушку по ту сторону – как знать! – быть может, на другой день генеральное сражение под Фридландом имело бы иные последствия... Но кто мог предположить, что не далее как завтра произойдет здесь кровопролитная битва, которая существенно повлияет на исход всей войны!...
Во всяком случае, с нашей стороны была сделана ошибка: какую пользу могли принести аванпосты, выставленные к стороне неприятеля, когда между ним и ведетами весь кругозор закрывался лесом?
На другой день, в четыре часа утра, наши войска стояли уже в боевом порядке на обширной равнине впереди Фридланда. В воспоминаниях участников этого боя в особенности запечатлелась картина утра 2-го июня, в час, предшествовавший началу дела. «Восходящее солнце, – говорить один из них[34], – играло в блестящем оружии наших колонн. Белые перевязки на зеленых мундирах блестели как весенний цвет на деревьях. Пушки светились как жаровни. Одним взглядом можно было обозреть огромное пространство между городом и лесом. Уланские флюгера пестрели как маков цвет, на правом фланге, где была сосредоточена почти вся наша кавалерия.»[35]
Впереди фронта улан, несколько ближе к центру, стояла деревушка Гейнрихсдорф, а за нею тот самый лес, куда накануне они загнали зеленых гусар и Саксонцев. Один эскадрон улан[36] прикрывал два легкие орудия, стрелявшие в опушку, по цепи французских стрелков, как вдруг, в начале десятого часа, неожиданно показалась из лесу неприятельская кавалерия. Густое облако пыли, сопровождавшее ее движение, не позволяло определить глубину колонны; видно было только что фронт ее не велик. Несколько выстрелов из двух наших орудий ни мало не остановили ее движения. Тогда приказано было двум эскадронам улан[37] вместе с эскадроном лейб-казаков ударить на эту колонну.
Вызванные части двинулись на рысях повзводно, прошли через деревню, повернули налево и выстроились поэскадронно уступами. Командирский эскадрон шел впереди. Приблизясь к неприятелю саженей на сто, ротмистр Щеглов дал команду: «пики на перевес – марш-марш!» и, крикнув ура! понесся вперед. Переняв этот крик, дружно бросился за ним командирский эскадрон, но, подскакав на несколько шагов к французской колонне, вдруг остановился в некотором замешательстве. Неприятель оказался сильнее, по крайней мере, впятеро и стоял неподвижно, как каменная стена. Это были знаменитые драгуны Латур-Мобура. Задняя их шеренга, в расстоянии нескольких шагов, открыла огонь по уланам, а передняя отбивала палашами пики нескольких удальцов, которые во что бы то ни стало, хотели врезаться в неприятельский фронт. Вдруг, в рядах Французов раздались крики: «En avant! Vive l’empereur!» (Вперед! Да здравствует Император!) и вся колонна ринулась на рысях на командирский эскадрон, так сказать, давя его своею массой. Уланы повернули назад, но не вскачь и не рысью, а шагом, и отступали медленно. Наши фланкеры, выехав вперед к неприятелю, начали отстреливаться из карабинов, а несколько смельчаков, выскочивших из французских рядов, чтобы рубить отступающих, сброшены были с седел нашими пиками. Но вот, значительная часть французской кавалерии быстро заехала в пол-оборота направо и заградила уланам прямой путь их отступления. Уланы бросились было вправо, но здесь – непредвиденная беда: крепкий и высокий плетень. Эскадроны наши остановились. Лейб-казаки, бывшие позади их, быстро спешились и принялись ломать эту преграду, а меж тем Французы в это самое время уже наперли на улан всею своею силой. Двум эскадронам нашим невозможно было двинуться ни в какую сторону, и тут-то пошла ужасная свалка. Сперва драгуны принялись было расстреливать наших из ружей, но через несколько минут уланы смешались и сбились с ними в одну толпу. Тут уже исчезла всякая правильность: стреляли куда попало, и в своих, и в чужих, дралися пиками, рубились саблями и палашами, как бешеные, с остервенением бросались друг на друга... Это была страшная кавалерийская резня на месте. Но драгунам ловче было действовать в тесноте палашами, чем уланам пиками, да и перевес в материальной силе был на их стороне. К счастью, лейб-казакам удалось-таки, наконец, частью разобрать, а частью повалить плетень, и толпа дерущихся улан, слыша призывные крики товарищей-казаков, начала пятиться в тыл, отбиваясь от французских палашей. Пока люди наши перебирались через поваленный забор, несколько человек, самоотверженно обернувшись грудью к неприятельскому фронту, дрались с самым отчаянным мужеством, удерживая напор драгунской массы.
Наконец, нашим удалось выбраться из этой адской сечи, и они поскакали гурьбой вдоль по улице, спеша под прикрытие русского фронта. Драгуны гнались вслед за ними, но только что успели выскочить из деревни на ровное место, как вдруг были стремительно атакованы лейб-казаками и лейб-гусарами, посланными на выручку наших. Французы не выдержали, дали тыл и еще быстрее помчались назад, сквозь ту же деревню, преследуемые с тылу казаками и гусарами. В это же время, командирский эскадрон уланского полка, успев уже оправиться после своей рубки, вместе с эскадроном майора Лорера, подоспевшим к нему на помощь, понеслись мимо деревни в направлении к лесу, чтоб отрезать Французам ретираду, но, к сожалению, движение это не удалось, и драгуны успели уйти под защиту леса. Вслед за сим деревня Гейнрихсдорф была занята нашею пехотой, которая сейчас же протянула цепь стрелков под лесом, а уланы возвратились на прежнее место, ко фронту своего полка, и слезли с лошадей в ожидании дальнейших приказаний.
Вскоре после этого уланский полк в целом своем составе потребован был на крайний правый фланг, вместе с тремя лейб-гусарскими эскадронами. Тут присоединился к ним еще Александрийский гусарский полк, и все эти части вместе составили особый отряд, отданный графом Уваровым под начальство генерал-майору графу Ламберту. Ему было поручено обрекогносцировать крайний левый фланг французской армии, который как будто прятался от нас за лесом и селениями, и стараться, по возможности, оттеснить его еще далее. Отряд Ламберта двинулся вперед, и уже обогнул лес, как вдруг увидел в некотором расстоянии сильную пыль. То были свежие войска шедшие к маршалу Мортье на помощь. Движение их прикрывалось кавалерией, которая стояла, спешившись, впереди какой-то деревни. Лишь только отряд Ламберта показался на опушке леса, в этой кавалерии трубачи подали сигнал – полки спешно сели на коней и грозным шагом, спокойно двинулись к нему на встречу. Это шли драгуны генерала Груши и знаменитые кирасиры, с которыми нашим уланам приходилось теперь встретиться еще впервые на своем веку. Вид этих всадников, на огромных лошадях, в блестящих латах, с развевающимися по ветру конскими хвостами на металлических шишаках, производил-таки впечатление весьма внушительного свойства. Но, несмотря на то, легкоконные уланы бросились и ударили на них так быстро и решительно что, не дав опомниться, сразу прогнали их за деревню, причем, в погоне за ними, многих ссадили с лошадей своими пиками. Досталось также и драгунам. Таким образом, отбросив противника за селение, наши на некоторое время приостановились, и, видя, что Французы еще в больших массах собираются за деревней, отступили к своим, за лес, на прежнее место. Получив донесение о видимом намерении неприятеля атаковать Ламберта превосходными силами, граф Уваров поспешил послать к нему на помощь еще часть кавалерии. Это увеличило количество наших сил до 35 эскадронов. Но все-таки и при этом подкреплении, мы имели против себя 50 эскадронов превосходной и большею частью тяжелой кавалерии. На нашей стороне было преимущество легкости и увертливости, на стороне же противника количество, массивность и сила, почти несокрушимая при стройном и сосредоточенном ударе. Мы могли, так сказать, только дразнить и щипать его, он же мог прорвать и раздавить нас своею грозною, компактною массой. Тем не менее, наша легкая конница не уклонилась от чести неравного боя. Впереди стал теперь Гродненский гусарский полк[38], потом уланы цесаревича в одной линии с Александрийцами, а далее лейб-гусары с лейб-казаками. И вот, наконец, вышли против нас из-за леса, эти грозные 50 кирасирских и драгунских эскадронов, разделясь на три колонны. Средняя ударила в центр, а две остальные во фланги. Мы бросились к ним во встречную атаку. И несколько часов сряду длилось это кавалерийское дело, с переменным счастьем: то мы их прогоняли, то они нас, а между тем, и к ним и к нам подходили подкрепления. Это было беспрерывное волнение двух линий, двух масс: то одна нападает, а другая уходит от нее, то эта последняя, доскакав до своих резервов, оборачивает коней и бросается на первую, нападает в свою очередь и опрокидывает массу противника. И во время этого беспрерывного волнения удары пик и палашей достались на долю тех, которые оставались в тылу, то есть и мы, и нас били вдогонку. Наши уланы н гусары отчаянно врубались в середину Французов и скакали вместе с ними, нанося удары во все стороны. Сражение это, по словам Беннигсена[39], длилось «с равною с обеих сторон жестокостью и отчаянием, однако же, успех был еще не решителен». Подкрепления Французов были гораздо сильнее, и нам, наверное, пришлось бы уступить им поле, если бы не подоспела на помощь как раз кстати, вся резервная кавалерия Уварова с несколькими орудиями конной артиллерии. Тогда повели мы общую атаку всеми конными силами нашего правого фланга, сопровождая ее сбоку горячим огнем вновь прибывших орудий, и долго длившееся волнение двух масс прекратилось, – как и обыкновенно бывает в кавалерийских делах, – тем, что одна из них была окончательно прогнана с поля. Мы опрокинули Французов самым решительным образом, устлали равнину их латниками и драгунами, отшвырнули всю массу этой тяжелой конницы под самый лес и возвратясь на свое прежнее место выстроились в шахматном порядке, в ожидании конца пехотного боя. Таким образом, на правом фланге русской армии была одержана победа: поле сражения осталось за нами, и прогнанный противник не дерзал более нападать на нашу конницу.
К несчастью, левый фланг нашей позиции, расположенный в неудачно выбранной местности, потерпел поражение, несмотря на личное мужество и вдохновительное присутствие в самом жестоком огне начальника этого фланга князя Багратиона и таких генералов как Раевский, Багговут и Ермолов. Багратион вынужден был уступить свою позицию, занятую вслед за ним артиллерией Виктора. Эта многочисленная артиллерия открыла убийственный огонь во фланг нашему правому крылу, где находились уланы. Был уже девятый час вечера. Выстрелов нельзя было различать: гремел беспрерывный гром, и все поле сплошь застилалось густым дымом. Грозный гул разносился по полям и лесам; земля дрожала. Багратион отступил в город и зажег предместье. Тогда только князь Горчаков, начальствовавший правым флангом, заметил опасность своего положения: он был отрезан. Здесь оставалось одно: штыками проложить себе дорогу, и князь не задумался пред этим исходом. Направив свою пехоту в город, он приказал кавалерии прикрывать ее движение. Тут уже выступила против нас вся французская конница и, хотя грозно шла за нами, но атаковать не смела, ощущая слишком чувствительно последствия недавно конченого дела на правом фланге. Когда мы остановились, кавалерия противника сделала то же. Между тем пехота Горчакова штыками проложила себе дорогу в город и встретила там корпуса Нея, Виктора, Ланна и Мортье, то есть вдесятеро сильнейшего неприятеля; но ни перекрестный огонь, ни штыковые атаки с фронта, с флангов и с тыла не принудили ее к сдаче. Борясь до последней капли крови, она успела отбиться и выйти за город. Здесь предстояла пехотинцам переправа через реку Алле, но мостов уже не существовало: они были еще ранее сожжены, по ошибочному приказанию, переданному каким-то адъютантом инженерному офицеру, поставленному у переправы[40]. Тут уже исчезла всякая надежда на спасение и вместе с нею рушился порядок. Во все стороны разослали офицеров отыскивать броды.
В это время французская кавалерия двинулась вперед против нашей, выставив пред собою многочисленную конную артиллерию. В наших посыпались брандскугели и ядра, и по всей неприятельской линии раздались громкие, торжествующие крики: «Victoire! En аvаnt! Vivе L'еmреrеur!» (Победа! Вперед! Да здравствует Император!) Пожар освещал поле сражения... К французской кавалерии спешно подходили пехотные колонны, со своею артиллерией и, образовывая полукруг, все более и более прижимали наших к реке. Батарейный огонь стал еще чаще. В наших рядах толковали, что под городом где-то есть брод, но где? – Никто не знал положительно. Пехота, не желая сдаться, бросилась в реку, но многие не попали на мелкое место и утонули; другие бегали по берегу, отыскивая брод; иные поплыли; артиллерия наша также пошла в брод, на удачу, предпочитая лучше потопить орудия и самим утопиться, чем сдаться в плен и видеть свои пушки трофеем в руках торжествующего неприятеля.
Наконец и уланскому полку пришла очередь – он пошел вплавь через реку.
«Легко сказать, – говорит участник[41], – переплыть на лошади через реку», – и переплыть ее, прибавим мы от себя, с полным походным вьюком, в полном боевом вооружении, таща на крупе или на хвосте еще пехотного солдата! – «Но каково плыть, – продолжает он, – ночью, не зная местности, и когда с тыла жарят ядрами и брандскугелями! На берегу реки был сущий ад! Крик и шум ужасный.... Тут тонут, там умоляют о помощи, здесь стонут раненые и умирающие.... Пехота и конница сбились в кучу.... Нельзя пробраться к берегу, а между тем ядра и брандскугели валят в толпы и в реку... Если бы в эту минуту французская кавалерия бросилась на нас, то наделала бы беды; но она помнила, как мы дрались с нею днем, и не посмела напасть на нас! Только криком она давала знать, что она тут».
Вместе с уланами переправлялись и пехотинцы, как мы сказали уже, либо сидя на крупе, либо ухватясь за хвост; тонущие цеплялись за поводья, за стремена, за ноги, топили и себя, топили и всадников с лошадьми; но многим удалось и спастись.
В некотором расстоянии от берега чернелся лес. Там, на опушке и в самом лесу горели костры и собирались разбредшиеся части войск. Тут раздавались звуки трубы, там били в барабан, здесь громко звали полки по именам, а между тем пушечные выстрелы с противного берега не умолкали, и ядра, взрывая землю, прыгали по берегу.
Уланы, добравшись до костров, расположились под лесом на кратковременный бивуак, не расседлывая лошадей, и отогревали желудки горячею водой, смешанною с водкой[42]. Простояв здесь около двух часов, армия наша ночью двинулась в поход, и на другой день перешла через реку Прегель, под городом Велау. Шли форсированными переходами, причем арьергард наш почти ежедневно имел стычки и перестрелку с неприятелем. Каждый день главные силы нашей армии слышали позади себя пушечные выстрелы. Наконец, после горячего арьергардного дела, мы перешли через Неман, под Тильзитом, и уланский полк остановился на бивуаках при селении Бенискайтен.
В сражении под Фридландом уланы не видали своего шефа: цесаревич находился все время на нашем левом фланге вместе с гвардейскою пехотой и тяжелою гвардейскою кавалерией. День 2-го июня оставил по себе в полку память: он стоил уланам ста человек убитых и раненых. Но за то, кроме офицерских наград, каждый эскадрон получил по пятнадцати знаков отличия военного ордена. Сам Наполеон и все французские воины, бывшие под Фридландом сознались, что Русские дрались превосходно и что в плен взяты одни лишь раненые. Не только ни один полк, но ни один русский взвод не положил оружия! Дух в войске был превосходный. Не говоря уже об офицерах, но и солдаты нисколько не приуныли после Фридландской битвы: напротив, все горели желанием сразиться снова и как можно скорее.
Но этому пламенному желанию не суждено было сбыться так скоро. Фридландским боем закончился в эту войну ряд кровопролитных битв с Французами. 10-го (22-го) июня заключено в Тильзите перемирие и 27-го (9-го) июля ратифицирован мирный трактат. Впрочем, армия наша еще ранее этого срока стала возвращаться в пределы отечества. Уланский полк 13-го июня выступил в Шавли для откорма лошадей и исправления амуниции после кампании, а 29-го июня пошел в Петербург, куда прибыл 9-го августа.
IV.
В Финляндской кампании 1808 года принимал участие только 2-й батальон, отошедший в следующем году на сформирование лейб-гвардии драгунского полка, а потому мы опускаем описание его боевых трудов в этой тяжкой и своеобразной войне, как не касающиеся непосредственно 1-го дивизиона, который дал начало нашему полку.
Во внимание к подвигам и отличиям под Аустерлицем и Фридландом, императору Александру Павловичу благоугодно было даровать лейб-уланскому цесаревича полку права и преимущества старой гвардии. В то время гвардейские полки как тяжелой, так и легкой кавалерии по штатам полагались только в пятиэскадронном составе с одним запасным полуэскадроном[43]. Поэтому вместе с получением новых преимуществ, полк разделен был на две части. Первый батальон в полном своем составе назван лейб-гвардии уланским, а второй – лейб-гвардии Драгунским[44] полками.
Цесаревич Константин хотя и остался шефом, по-прежнему числясь в списках лейб-эскадрона, но в официальном названии полка, с прибавлением к прежнему «лейб» нового слова «гвардии» отменено было шефское имя, и сделано это на нижеследующих основаниях: император Павел Петрович, в первые же дни по вступлении на престол, отменил для всех армейских полков их прежние территориальные названия (по городам и провинциям), повелев называться впредь по именам шефов[45]. К армейским полкам, в коих шефами числились лица Императорской фамилии, присоединялось слово «лейб». Tаким образом у нас были тогда лейб-кирасирские его величества и ее величества полки[46], а позднее, на том же основании, лейб-уланский цесаревича Константина. В одной только гвардии полки не назывались по именам шефов, ибо для всех гвардейских полков был один шеф – Император[47], они сохраняли свои прежние названия, либо территориальные, либо же по роду оружия: как-то: а) лейб-гвардии Преображенский, Семеновский, Измайловский и б) лейб-гвардии Егерский батальон, лейб-гвардии Конный, лейб-гвардии Гусарский, лейб-гвардии Казачий. Хотя с воцарением императора Александра I армейским полкам (за исключением егерских, называвшихся по номерам) и были возвращены прежние территориальные названия[48], но касательно гвардии в этом отношении перемен никаких не последовало, и таким образом с получением гвардейских прав, оба полка образованные из улан цесаревича названы по роду оружия: лейб-гвардии Уланским и лейб-гвардии Драгунским.
Этот акт Высочайшей милости к полку был словесно объявлен императором цесаревичу Константину в день своего рождения, 12-го декабря 1809 года, и августейший шеф того же числа оповестил о сем полк особым повелением[49]. Полковым командиром лейб-гвардии уланского полка оставлен был генерал-майор Чаликов.
Спустя два с половиною года после этой высокой монаршей милости, лейб-гвардии уланскому полку предстала задача – поддержать в новых битвах свою прежнюю армейскую славу. Наступила война Отечественная, и затем война за освобождение Европы. В этот славный боевой период 1812-1814 годов, на долю разных частей лейб-гвардии уланского полка пришлось пятьдесят пять боевых эпизодов, между которыми было четыре блистательнейших и ни одного поражения. Над этим полком как будто горит какая-то особая счастливая звезда: он никогда еще не знал что такое поражение, и из самых отчаянно трудных дел, иногда уничтоженный, как, например, при Аустерлице, более чем на половину, выходил с честью и славой, так что даже сами противники с уважением отдавали ему полную дань справедливости.
Из этой полусотни боевых дел, мы расскажем только четыре особо выдающиеся эпизода[50].
Красное, Кульм, Соммепюи, Фершампенуаз, эти четыре имени составляют лучшее достояние полка, добытое им своею кровью на поле чести.
Начнем же с первого.
2-го ноября 1812 года, Наполеон, с остатками своей великой армии, выступил из Смоленска к Красному. Наш авангард[51], под начальством Милорадовича, 3-го ноября, в сумерки, вышел к столбовой Смоленской дороге у деревни Ржавки, на перерез Наполеоновой гвардии. Развернув свои войска влево, параллельно дороге, Милорадович, однако же, ограничился только сильною канонадой по отступавшим колоннам неприятеля, так как собственные его войска далеко не все еще подтянулись к месту боя, и он пока еще чувствовал себя недостаточно сильным, чтобы прямо заградить Французам путь отступления. Когда мимо наших пятидесяти двух орудий[52] пробегала последняя неприятельская колонна, генерал Меллер-3акомельский, бывший командир уланского полка, получил приказание атаковать ее полками легкой гвардейской дивизии. Лейб-драгунский полк направился в обход правее дороги, а лейб-гусары вместе с лейб-уланами, атаковав неприятеля рысью, заставили колонну положить оружие и взяли при этом пять (а по другим сведениям шесть) орудий[53].
На следующий день (4-го числа) Милорадович, сделав фланговое движение к деревням Мерлину и Никулину, имел пред сумерками дело с корпусом вице-короля, которому, во избежание напрасного кровопролития, предложил сдаться на выгодных условиях. Вице-король отвечал отказом. Тогда Милорадович повел на него решительную атаку. Пехота справа и с фронта пошла в штыки, а гвардейская кавалерия вместе с казаками развернулась влево от дороги и бросилась на неприятеля, который вмиг смешался и, потеряв всю артиллерию своего корпуса, в беспорядке кинулся в сторону, стараясь в ночной темноте пробраться к Красному окольными путями. Ночь прекратила сражение.
5-го ноября, Наполеон, желая облегчить корпусу маршала Даву возможность соединения с собою в Красном, вознамерился отвлечь от его пути большую часть русских сил и для того в восьмом часу утра атаковал деревню Уваровку. Пока эта деревня переходила из рук в руки, длинные колонны Даву, преследуемые казаками, спешно двигались по Смоленской дороге, и едва только миновали они сельцо Еськово, как Милорадович обогнул их с тыла пехотой, а справа направил во фланг гвардейскую кавалерию Меллер-Закомельского. Даву был разбит. Наполеон, узнав о его поражении, начал дальнейшее отступление к Лядам, уже не дожидаясь соединения с корпусом Нея, следовавшим в расстоянии перехода за Даву.
В тот момент, когда последняя французская колонна выходила из Красного, лейб-гвардии уланский полк ворвался в город и, проскакав по пылающим улицам, лихо атаковал неприятеля у противоположного городского выезда. Французские фурштаты и пехота бросились к повозкам своего обоза, и хотя защищались отчаянно, но натиск улан принудил их разбежаться в стороны, оставив победителям 200 человек пленными, шесть орудий и весь обоз, в котором, между прочим, были захвачены уланами: маршальский жезл Даву, все его экипажи и чемоданы, вся корпусная канцелярия и казна, вывезенная им из Смоленска в количестве 31.000 руб. асс.[54] Эти деньги поступили в полковую артель и составили особый краснинский капитал, из которого каждый нижний чин, участвовавший в деле 5-го ноября, при выбытии из полка, награждался пятьюдесятью рублями[55].
На следующий день (6-го ноября) лейб-уланский полк занял позицию на правом фланге, позади 26-й пехотной дивизии Паскевича. Все утро прошло в нетерпеливом ожидании: неприятель не показывался. Но, наконец, около трех часов дня казаки известили о приближении маршала Нея, и Милорадович двинулся вперед, к берегам речки Лосьмины. Фронт этой позиции прикрывался глубоким оврагом, на дне которого протекает названная речка. Густой туман совершенно скрывал приближавшиеся колонны Нея, так что они успели незаметно подойти к нашему фронту на 250 шагов, и только с этого расстояния едва можно было различить их сквозь морозную мглу. Жесточайший картечный огонь сорока орудий встретил их приближение, но ни мало не смутясь, Французы тремя колоннами перешли Лосьминский овраг и не только с замечательною храбростью, но даже с исступлением бросились на русские батареи. Паскевич с тремя полками своей дивизии[56] ударил в штыки и привел неприятеля в замешательство, а лейб-уланы, воспользовавшись этим моментом, с громким «ура» кинулись в атаку и довершили поражение. Неприятельская колонна, доставшаяся на долю улан, была истреблена и почти вся целиком положена на месте[57]. Но маршал Ней, не теряя времени, тотчас же повел в атаку новые силы. Это были: батальон виртембергских войск и два иллирийские полка – 18-й и 4-й. Молча, с ружьями «на перевес» и целыми рядами ложась от русской картечи, приближался к нам храбрый противник. В это время Милорадович, принявший на себя ближайшее руководство боем, подскакал к Павловским гренадерам и лейб-уланам, стоявшим рядом, и, указывая на 18-й иллирийский полк, сказал:
– Ребята! послезавтра я именинник и мне нечего подарить вам... Ребята! дарю вам эту колонну!
Громким и радостным криком ответив на находчивую выxодку любимого начальника, лейб-уланы, только что успевшие собраться после первой стычки, на измученных лошадях кинулись в новую атаку.
И через несколько мгновений, значительная часть французской колонны опять легла под ударами уланских пик и сабель, потеряв одним из первых, в числе раненых, своего начальника генерала Разу. Эта атака доставила полку громкую славу. В первый же момент ее, 2-го эскадрона корнет Корочаров[58], вместе с корнетом Константином Большвингом[59] и рядовым Дарченкой, налетели на знаменщика 18-го иллирийского полка и, пока двое последних рубили знаменные ряды, Корочаров отнял орла, изрубив знаменосца. В это же самое время штабс-ротмистр Мейер 2-й со взводом 4-го эскадрона кинулся на неприятельскую батарею и захватил шесть орудий. Отбитый на всех пунктах и потеряв артиллерию, Ней отступил с тремя тысячами человек и в сумерки двинулся по течению встреченного им ручья, в надежде, что он впадает в Днепр, и шел на-авось, без дороги, без проводника, руководствуясь только весьма плохою картой[60].
Полковник Гундиус с тремя эскадронами лейб-улан был отряжен для преследования одной из Неевских колонн, кинувшейся к северу от Красного. Отрезав ей путь, он заставил ее сдаться без сопротивления и ночью привел на бивуак 2.500 человек пленных[61].
Таким образом, трофеями полка, после четверодневного Краснинского боя, были 12 орудий, орел, маршальский жезл, значительный обоз, казна и 2.700 человек пленных.
Уланы, расположась на бивуаке, в первый раз после довольно долгого времени расседлали коней и предались отдыху. Веселые песни и разговоры раздавались на всем пространстве русского стана озаренного множеством костров. Воздух был ясен и чист, морозное темно-синее небо светилось бесчисленным множеством звезд, которые в эту памятную ночь сверкали с необыкновенно яркою игрой. В это время, объезжая войска после сражения, Милорадович подъехал к лейб-уланам, благодарил их за храбрость и мужество, оказанные в четверодневном бою и обещал исходатайствовать в награду полку Георгиевские штандарты.
«Известный храбростью лейб-гвардии уланский полк, отличавшийся во всех делах», писал он в своем донесении Кутузову, «превзошел себя в сей день; равномерно отличился Орловский пехотный полк. Действия сих двух полков заставили меня на месте сражения обещать им исходатайствовать у вашей светлости – первому георгиевские штандарты, а второму серебряные трубы»[62].
Представление Милорадовича было уважено. 13-го апреля 1813 года полку Всемилостивейше пожалованы Георгиевские штандарты «за взятие при Красном неприятельского знамени и за отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года». Эта надпись и ныне красуется на полотне лейб-уланского штандарта.
С именем Кульма соединена вторая славная страница в боевых летописях полка этой эпохи.
Война за свободу Европы перенесла наши армии на поля Германии, которая, с приходом Русских, поднялась против ненавистного владычества Наполеона. Прусаки и Австрийцы, недавние наши подневольные враги, силою счастливых обстоятельств, сделались добровольными союзниками императора Александра. Уже более семи месяцев с переменным счастьем длилась борьба, прекращенная только на несколько недель перемирием которое кончилось в начале августа 1813 года. Первое столкновение противников после перемирия произошло под Дрезденом, но исход двухдневного сражения (14-го и 15-го августа) был неудачен для союзных войск, которые должны были выдержать опасное и трудное отступление через горную н лесистую страну в Богемию. Корпус маршала Вандамма стремился преградить им путь отступления, спеша занять город Теплиц, а граф Остерман-Толстой на каждом шагу, в течение двух дней, с честью противоборствовал этому стремлению, причем полки нашей 1-й гвардейской пехотной дивизии покрыли себя неувядаемою славой. 17-го августа лейб-уланский полк, в составе главных сил союзников, вступил в теснины Богемских гор. Кремнистая дорога, изрытая частым движением войск и обозов, а также водомоинами вследствие проливных дождей, страшно утомляла людей и животных. Но присутствие цесаревича, который почти весь путь следовал при своем полку, поддерживало в эскадронах дух бодрости. Уланы вместе с лейб-драгунами шли в голове наших резервов. Спускаясь с лесистого гребня Гейерсберга в Теплицкую долину, заметили они влево от дороги облака дыма, которые первоначально были приняты за дым бивуачных костров, но вскоре донесшийся гул выстрелов объяснил, в чем дело. В это время прискакал от государя генерал Дибич и передал уланам и драгунам Высочайшее повеление поспешить на место боя. Дибич сам повел эти два полка на полных рысях по дороге к Цинвальду и, пройдя его, повернул с узкой тропы налево. Спустясь в долину, оба полка почти в карьер прискакали к рядам русской гвардии, которая под начальством Остермана уже около двух часов напрягали все усилия, чтобы сдержать напор вдвое сильнейшего противника. Сражение, меж тем, достигнув высшей степени упорства, перешло в ожесточенный штыковой бой.
После долгого ненастья, еще с утра взошло ясное солнце, и поднявшийся туман, по выражению очевидца[63], как занавес в театре, раскрыл величественную панораму окрестностей с их лесистыми холмами, оврагами, ручьями, разбросанными деревнями и цепью высоких гор, терявшихся в дальней синеве. Посреди этой прекрасной декорации светлою лентой извивалась шоссейная дорога, ведущая из Кульма в Теплиц, а по обеим сторонам ее, на бледно-зеленеющем фоне, в пороховом дыму, темными пятнами рисовались две близко сошедшиеся линии противников.
Около пяти часов дня[64] все наши резервы были уже введены в жаркое дело. Нетронутою оставалась про запас одна только рота его величества Преображенского полка. В это самое время на поле битвы прискакали два полка, приведенные Дибичем, и стали в эскадронных колоннах между небольшим леском и шоссейною дорогой.
Завидя своих улан, цесаревич подъехал к обоим полкам и, поздоровавшись, сказал:
– Ну, ребята, не выдавай! Я всегда надеялся на вас!
Задушевное «рады постоять за Царя!» было громким ответом на это приветливое слово[65].
Между тем Вандамм вознамерился решительным ударом сломить геройскую оборону нашей пехоты и пустил вперед две сильные, густые колонны, приказав им пробиться сквозь нашу линию между левым крылом и центром.
Колонны двинулись, овладели селением Пристен, прорвались в назначенном для того пункте и, выйдя сквозь лесок из-за оврага на равнину, кинулись на батарею Байкова, громившую их картечью.
Казалось, вот-вот уже верный и окончательный успех ожидает противника, – но в этот решительный момент генерал-майор Дибич развернул лейб-улан и драгун, не дожидаясь приказаний. С одной стороны трубы гремели атаку, с другой – неприятельская пехота двумя громадными массами мерным шагом грозно наступала с барабанным боем. Дибич во главе двух приведенных им полков первым понесся в атаку. «То была самая блистательная минута битвы», замечает историк[66]. Генерал Ермолов, также описывая ее в своем донесении, говорит, между прочим: «лейб-гвардии уланский и драгунский полки с невероятным стремлением ударили на колонны. Одна скрылась в лес, другая огонь дерзости угасила в крови своей. Охваченная со всех сторон, легла мертвая рядами на равнине»[67].
Этою атакой, в которой мы захватили 500 человек в плен, закончился первый день Кульмского боя. Еще некоторое время продолжалась канонада, но Вандамм не возобновлял наступления, и таким образом около шести часов пополудни бой с обеих сторон прекратился. В восьмом часу пришел Милорадович, а вскоре вслед за ним подоспели еще другие, свежие силы.
В Кульмском сражении наша гвардия оказала чудеса мужества и стойкости. «Нет ужасов, могущих поколебать храбрые гвардейские полки», доносил Остерман государю. И замечательно, что списки об отличившихся офицерах вовсе не были представлены, потому что если бы представлять, то «надобно б было, – как говорит Ермолов в своем донесении, – представить список всех вообще». «Не представляю и о нижних чинах, продолжает он:
надобно исчислить все ряды храбрых полков, имеющих счастье носить звание лейб-гвардии государя, ими боготворимого»[68].
«Память Кульмского сражения не умрет в веках, по необыкновенному мужеству русских войск – замечает историк[69], – и потому что оно дало другой оборот войне. Если бы граф Остерман не решился пробиваться сперва по Теплицкой дороге, а потом не удержал ее за собою, он подверг бы великой опасности армию, находившуюся в горах. Она лишилась бы чрезвычайной выгоды, какую в военном отношении представляла ей западная часть Богемии для действий на сообщения неприятелей и потеряла бы на долгое неопределенное время возможность совокупного действия с другими армиями».
Король Прусский, присутствуя на месте боя, как свидетель подвига русских войск, наградил всех генералов, офицеров и солдат, бывших в строю 17-го августа орденом Железного Креста. Граф Милорадович, в приказе, отданном по этому случаю говорит: «Да умножат сии новые знаки отличия на груди вашей число тех, которые трудами и кровью приобрели вы в битвах за спасение отечества, за славу имени Русского и за свободу Европы!»
На поле Кульмской битвы возвышаются теперь три памятника, воздвигнутые впоследствии монархами союзных держав, которых войска участвовали в поражении Вандамма. Но император Александр увековечил память этой знаменитой победы достойным подвигом добра, учредив, ровно год спустя, комитет для вспомоществования всем неимущим воинам на поле чести кровь свою проливавшим.
1-го января 1814 года лейб-гвардии уланский полк торжественно, при звуках музыки, перешел Рейн и вступил в пределы Франции.
Из шестнадцати боевых дел выпавших на долю полка в эту кампанию, в особенности выдаются два эпизода: один при Соммепюи, другой под Фершампенуазом.
11-го марта легкая гвардейская кавалерийская дивизия, под начальством графа Ожаровского, двигалась в направлении к Соммепюи и настигла по дороге артиллерийский парк Макдональдова корпуса под прикрытием пятисот сапер и канониров. Командир парка, завидя неприятельскую конницу, тотчас же поставил его в каре и приготовился к обороне. Несколько гранат, удачно пущенных из наших орудий, расстроили противника и угрожали взрывом зарядных ящиков. В этот момент лейб-гвардии уланский полк, выстроив фронт, пошел в атаку и, врубившись в самую середину каре, уничтожил на месте почти всю артиллерийскую прислугу и захватил в плен 300 человек и 23 орудия, со всею упряжью и зарядными ящиками, потерпев ничтожную потерю несколькими ранеными людьми и двумя убитыми конями[70]. Ротмистр Глазенапп за это дело получил в награду орден Св. Георгия 4-й степени.
Но зато полк лишился храброго штабс-ротмистра Корочарова, который еще в корнетском чине доставил ему вечную славу взятием под Красным неприятельского знамени. Корочаров убит наповал, в то время как врезался, одним из первых, в каре противника.
13-го марта главные силы союзников двинулись от реки Марны к Парижу. Мармон, теснимый нашим авангардом, подошел к местечку Соммесу, где и занял боевую позицию, в ожидании присоединения к себе войск Мортье. Здесь завязался бой, длившийся шесть часов сряду. Мармон, видя, против себя одну только кавалерию противника, надеялся в порядке отступить к Фершампенуазу.
В это время Барклай-де-Толли, слыша сильную канонаду в авангарде, приказал графу Ожаровскому идти туда на помощь с лейб-гвардии драгунским и уланским полками. Вслед за ними была двинута 1-я кирасирская дивизия с кавалергардами во главе и с одною ротою гвардейской конной артиллерии.
Между тем Мармон и Мортье соединились, так что теперь их силы простирались до 22.000 человек. Стараясь прикрывать Париж, маршалы решились отступать по большой Парижской дороге и приказали войскам сняться с позиции. Пехота была пущена вперед, а конница оставлена в арьергарде. Граф Пален, командовавший кавалерией нашего авангарда, сбил эту конницу и прогнал ее за пехоту противника, которая, свернувшись в каре, продолжала отступать к селению Конантре, лежавшему впереди Фершампенуаза.
Было уже около двух часов пополудни, как вдруг поднялся сильный восточный ветер. Тяжелые серые тучи почти мгновенно заволокли все небо, пошел дождь, снег, град, и все это закружилось в вихре порывистой бури. Ветер бил прямо в лицо Французам, которых сначала ослепляло песком и пылью, а потом осыпало градом, проливным дождем и снежною завирухой.
Под этою-то бурей граф Ожаровский с двумя своими полками на рысях прибыл к месту боя. Конная батарея наша тотчас же снялась с передков и открыла частый огонь по противнику. Почти одновременно с этим, Ожаровский подал сигнал к атаке. Уланы развернулись вправо, а драгуны влево от своей батареи и, имея перед собою августейшего своего шефа, цесаревича Константина, с криком «ура!» понеслись на неприятеля. Лейб-уланский полк, под командою генерал-майора Чаликова, ударил во фланг противника. Французы не выдержали этого отчаянного натиска и бросились бежать, бросая за собою ружья, орудия и зарядные ящики.
Один из французских писателей[71] говорит что «смятение было столь велико, что 24 орудия, более 60-ти зарядных ящиков и обоз были брошены перед Конантре. Пораженные паническим страхом, артиллерия, конница, пехота – все побежало к Фершампенуазу». В этом преследовании неприятеля лейб-гвардии уланский полк с бою взял шесть орудий.
Конница, прибывшая недавно из Испании, пошла было на подкрепление своей пораженной пехоте, но была опрокинута кавалергардами.
Вскоре после этого на место боя прибыл император Александр Павлович, король Прусский и князь Шварценберг. Неприятель, теснимый отовсюду, отступал к Сен-Гонтским болотам, надеясь там найти себе спасение. Но генералу Депрерадовичу с кавалергардским полком и четырьмя орудиями удалось отрезать Французам и этот последний путь отступления. К ним послали требовать сдачи, но один из парламентеров был оставлен в плену, а другой, флигель-адъютант императора, полковник Рапатель, убит пулею, пущенною из того самого каре, в рядах которого стоял родной брат его. Между тем буря усиливалась. Мрак от снега, дождя и дыма сгустился до того, что даже в нескольких шагах невозможно было различать предметы, и маршалы два раза въезжали в каре, из опасения быть увлеченными своею расстроенною конницей. Наконец, около четырех часов дня буря несколько уменьшилась, и погода стала проясняться. Видя непреклонность неприятеля, Русские решились атаковать его со всех сторон. Дивизион кавалергардов, лейб-казаки, лейб-уланы и Северские драгуны врезались в несколько каре. Кинбурнский и Смоленский драгунские полки с дивизионом Лубенских гусар поддерживали эту последнюю, решительную атаку, производимую в виду обожаемого монарха. Минута была одною из самых ужасных и беспощадных. Сам государь со своим конвоем должен был въехать в одно каре чтоб остановить кавалергардов, в пылу боя кинувшихся на один из батальонов, только что положивший оружие. Напрасно многие повторяли его величеству об угрожавшей ему опасности. «Хочу пощадить их!» – отвечал он. Пленные генералы были представлены обоим монархам. Государь хвалил выказанную ими храбрость, приказал возвратить им экипажи и принял живое участие в судьбе пленных, которых на одном только этом месте было взято до четырех тысяч человек.
Лейб-гвардии уланский полк в этот день потерял убитыми двух обер-офицеров, 10 рядовых, 47 лошадей; ранеными 4 обер-офицера, 34 рядовых, и без вести пропала одна лошадь.
Это дело, где было взято победителями 10.000 пленных, 80 пушек, 200 зарядных ящиков, весь обоз и парки, облегчило союзникам покорение Парижа; вместе с тем оно представляет блистательный пример победы одержанной под ужасною бурей исключительно одною конницей над многочисленною пехотой и значительною кавалерией. Дело было начато нами почти случайно, ведено на марше и без всякого предварительного распоряжения. Его можно назвать, в полном смысле, лихим поэтически-вдохновенным кавалерийским экспромтом.
Лейб-гвардии уланский полк за 13-е марта получил Георгиевские кресты на серебряные трубы и 30 знаков отличия военного ордена. Генерал-майору Чаликову дан Георгий 3-й степени, а всем пяти ротмистрам[72] тот же орден 4-й степени. Четыре офицера получили золотые медали за храбрость, пятеро алмазные знаки ордена Св. Анны 2-й степени, десять Св. Владимира 4-й степени с бантом, семеро – Св. Анны 2-й степени, и семеро тот же крест 3-й степени. Кроме того, союзные государи пожаловали Чаликову орден Красного Орла 2-го класса и командорский орден Св. Леопольда большого креста; восемь офицеров удостоились прусского ордена «За заслуги» (Pour le Merite). Император Австрийский за дело при Фершампенуазе прислал в полк три золотые и шесть серебряных медалей, а король Баварский возложил на вахмистра лейб-эскадрона золотую медаль, и, наконец, по низвержении Наполеона, Людовик XVIII, восстановленный король Франции, пожаловал в лейб-уланский полк три креста Почетного Легиона, один из коих был возложен на генерал-майора Чаликова. Громкое имя Фершампенуаза достойно заключает собою славную боевую летопись лейб-гвардии уланского полка за весь период войн 1812, 1813 и 1814 годов, блистательным финалом которого был церемониальный марш русской гвардии в стенах покоренного Парижа.
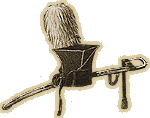
Примечания:
[1] Настоящая статья, равно как и последующая (под заглавием:
Военная жизнь в Варшаве, с 1815 по 1831 год), составляют эпизоды из Истории лейб-гвардии Уланского Его Величества полка, над которой по Высочайшей воле работает автор. Предлагаем вниманию читателя эти эпизоды, потому что в них заключается много интересных сведений о военной эпохе того времени, а также о цесаревиче Константине Павловиче, его характере и отношениях к своим войскам. Личность цесаревича, достойная внимания и изучения во многих отношениях, вообще мало разработана в нашей литературе, и автор, в пределах своей задачи, имеет в виду отчасти пополнить этот пробел.
Ред.
[2] Воспоминания Ф. В. Булгарина, т. II, стр. 159 и 160.
[3] Высочайший указ от 16-го мая 1803 года (см. Полн. Собр. Зак., т. XXVII, № 20764). При императоре Павле все регулярные военные силы России были разделены на тринадцать территориальных инспекций, со включением и гарнизонных частей. Каждая инспекция занимала известный определенный район и составляла нечто среднее между дивизией и корпусом, смотря по числу входивших в ее состав войск, в строевом же, равно как и в хозяйственном отношениях подчинялась особому инспектору.
[4] Полн. Собр. Зак., т. XXVII, № 20935. Высочайший приказ, отданный в С.-Петербурге 11-го сентября 1803 года: «Бывшему шефу оного (Одесского гусарского) полка, генерал-адъютанту барону Винцингероде исправлять по-прежнему должность генерал- адъютанта». Барон Винцингероде вскоре был употреблен по дипломатической части (см. Воспоминания Ф. Булгарина, т. II, стр. 160). Приказ по Одесскому гусарскому полку от 17-го сентября 1803 года. (Архив Л.-Гв. Уланского полка. История того же полка, соч. С. Гавловского, ч. III, стр. 91, приложение № 1).
[5] Военно-Энциклопедический Лексикон, т. XIII, стр. 202.
[6] Обозрение состава и устройства регулярной русской кавалерии, соч. П. А. Иванова, стр. 89.
[7] Хроника Императорской Российской армии.
[8] Не тому, который командовал польскими легионами во Франции.
[9] Один дивизион в состав этого полка вошел также из Мариупольского гусарского.
[10] От 19-го марта 1803 года.
[11] Драгунские полки в составе пяти, а гусарские десяти эскадронов, пехотные же в двенадцатиротном составе.
[12] Полки эти укомплектовывались и содержались по штатам и табелям 30-го апреля 1802.
[13] Высочайший приказ от 16-го мая 1803 (См. Полн. Собр. 3ак. Т. XXVII, № 20764).
[15] Ф. Булгарин. Воспоминания. Ч. II, стр. 161, 347—349,
[16] Андрею Ивановичу, сыну фельдмаршала. Часть этой переписки сохранилась в бумагах Ф. В. Булгарина, из
Воспоминаний которого мы и почерпаем наши сведения.
[17] Высочайшим приказом от 20-го ноября 1811.
[18] Господа офицеры и унтер-офицеры прибыли сюда за неделю пред сим. Они добрые ребята, молодцы и усердны к службе (фр.).
[19] Т.е. «они погрешили в этом деле от избытка храбрости и от незнания военного дела», в сущности, от неопытности (фр.). См. Dumas, Рrecis des evenements militaires, т. XIV р. 181. – Combаts еtе. т. III, р. 317.
[20] «Le rеgimеnt dеs Uhlаnу du grand duс Соnstantin, l’un dеs рlus bеaux dе l’аrmeе russе». – Dumаs, т. XIV, р. 280.
[21] С. Гавловский, ч. II, стр. 6.
[22] С. Гавловский, ч. II, стр. 7.
[23] Ф. Булгарин.
Воспоминания, т. II, стр. 280.
[25] Там же, т. III, стр. 96.
[27] Этот Драголевский, родом поляк, служил еще под знаменами Костюшки. В 1807 году ему было уже около пятидесяти лет от роду, но он был молодец собою и отличный кавалерист. Цесаревич в каждую поездку свою привозил по нескольку охотников в уланы и в конную гвардию. Драголевского взял он в Галиции, возвращаясь из Италийского похода, и определил унтер-офицером в Конную гвардию, а потом произвел в корнеты в уланский полк, обмундировал на свой счет и положил ему от себя постоянное содержание. (О Драголевском, который был не последним чудаком в своем роде, многие подробности можно найти в Воспоминаниях Ф. Булгарина, т. IV).
[28] С. Гавловский, Ч. II, стр.10; и Михайловский-Данилевский. История второй Французской войны.
[29] Ф. Булгарин т. III, стр. 141.
[31] Дмитрия Владимировича.
[32] В
Воспоминаниях Ф. Булгарина мы находим о корнете Старжинском следующие строки: «Старжинский был одним из лучших офицеров нашего полка. Красавцу, с отличным воспитанием и благородному во всех своих поступках, ему не доставало только военной славы – и он приобрел ее подвигом, которого не пропустил бы без внимания ни Тит Ливий, ни Тацит. Старжинский обрекал себя на явную смерть, и если он остался жив и невредим, то это истинное чудо. С какою радостью мы прижали к сердцу доброго нашего товарища, когда увидели его снова на лошади! Он даже удивлялся нашим поздравлениям, почитая подвиг свой ничтожным, и простодушно отвечал нам: «Кому-нибудь да надобно же было первому пойти!»
[33] Ф. Булгарин, т. III, стр. 207.
[35] Официальная реляция Фридландского дела, составленная вообще очень сбивчиво, говорит? что лейб-гвардии Конный и Уланский Его Высочества полки находились на левом фланге нашей позиции у князя Багратиона, и первые открыли огонь против неприятельской пехоты, занимавшей противолежащий лес. Наш историк M. И. Богданович по поводу этой реляции, между прочим, говорит что «в донесении Беннигсена, дивизии, стоявшие на различных пунктах позиции, показаны весьма сбивчиво, и потом, при изложении действий князя Багратиона на левом крыле, упоминаются полки, состоявшие в дивизиях показанных на правом крыле» (
История Царств. Александра I, т. II, приложения, стр. 41, примечание 30). Опираясь на авторитет нашего почтенного историка, и имея в виду свидетельство участника в деле (Ф. Булгарина), кажется, можно с уверенностью сказать, что показание реляции относительно уланского полка положительно неверно. Полк не был на левом фланге.
[36] Командирский, находившийся под начальством ротмистра Щеглова.
[37] Командирскому и ротмистра Радуловича.
[38] Ныне Клястицкий гусарский.
[39] Журнал военн. действ., стр. 254.
[40] М. Богданович,
История царств. Александра I, т. II, стр. 281.
[41] Ф. Булгарин,
Воспоминания, т. III, стр. 241.
[43] В армейской кавалерии только кирасирские и драгунские полки были пятиэскадронного состава с запасным полуэскадроном; полки же легкой кавалерии делились каждый на десять эскадронов (по пяти в батальоне), с одним запасным эскадроном.
[44] Что ныне лейб-гвардии Конно-Гренадерский.
[45] Полн. Собр. 3ак. т. ХХIV №17587 и №17590. Указ. 29-го ноября 1796.
[46] Ныне лейб-гвардии Кирасирский Его Величества (с 22-го августа 1831) и лейб-гвардии Кирасирский Ея Величества (с 26-го августа 1856).
[47] Высочайший приказ о принятии Императором на себя звания шефа и полковника всех полков гвардии последовал в первый же день его царствования, см. П. С. 3. т. XXIV, № 17531.
[48] Высоч. приказ 10-го марта 1808.
[49] Приказ по полку от 15-го декабря 1809. (Арх. л.-гв. Уланск. п.).
[50] Перечень остальных читатель найдет в полном боевом формуляре полка, помещенном в «приложениях» к сочинению из которого заимствован этот эпизод.
[51] В составе авангарда под начальством Милорадовича входили: 7-й и 2-й пехотные корпуса и 1-й кавалерийский, в коем состояла и легкая гвардейская дивизия. Всего до 16000 человек.
[52] 28 орудий 2-го корпуса и 24 орудия 7-го корпуса.
[53] Бутурлин, ч. II, стр. 94. – Богданович, т. III, стр. 112.
[54] С. Гавловский, ч. II, стр. 38. Арх. л.-г. уланского п. Журнал исходящих бумаг за 1812 год.
[55] 1-й дивизион, оставленный в Варшаве, получил причитавшуюся ему долю из краснинского капитала в 1818 (Арх. л.-гв. уланского Его Величества полка. Журн. входящ. бумаг за 1818).
[56] 5-й и 42-й егерские и Орловский пехотный.
[57] Коментарии генерала Хатова к истории Бутурлина, ч, II, стр. 114, примечание 3-е.
[58] В архиве л.-гв. уланского Его Величества полка, в Журнале входящ. бумаг за последнюю треть 1831 (кн. № 593) есть эскадронное расписание офицеров л.-гв. уланского полка 1812 года, найденное по смерти цесаревича Константина Павловича в бумагах его высочества и препровожденное, по воле императора Николая Павловича, в наш полк, для приобщения к делам полкового архива. В этом расписании корнет Корочаров показан во 2-м эскадроне, полковника Мезенцева, которым командовал ротмистр Заборинский 3-й.
[59] Константин Иванович Большвинг в чине штабс-ротмистра оставлен был с 1-м дивизионом в Варшаве и переведен в 1817 году в л. гв. уланский цесаревича Константина полк.
[60] Богданович. Т. III, стр. 138.
[61] Эскадроны Его Высочества, 2-й и 3-й. См. Гавловский, ч. II, стр. 40 – Богданович Т. III, стр. 138.
[62] Донесение Милорадовича Кутузову, от 7-го ноября 1812 года, в 2 часа ночи.
[63] П. А. Колзакова, см. Русскую Старину 1870, кн. II, стр. 137. «Взятие в плен маршала Вандамма».
[64] Михайловский-Данилевский (т. I, стр. 357) говорит, что нижеследующий момент усиленной атаки Вандамма произошел в два часа дня, генерал же Богданович относит его к пяти часам пополудни (т. II, стр. 224).
[65] С. Гавловский, ч. II, стр. 59.
[66] Михайловский-Данилевский, т. I, стр. 357.
[67] Донесение генерал-лейтенанта Ермолова графу Остерману-Толстому от 22-го августа 1813 за №1296. (Богданович, т. II. Приложения, стр. 698.)
[69] Михайл.-Данил., т. I, стр. 360.
[70] Формуляры лейб-гвардии уланского полка положительнейшим образом указывают на взятие сим полком именно 23-х орудий; в «Истории» же лейб-гвардии гусарского полка число их ограничено 15-ю, а генерал Богданович, основываясь на донесении графа Ожаровского (Воен.-уч. Арх.; Журн. вход. бумаг № 545), говорит, что захвачено было 300 пленных и 14 орудий, а остальные 12 орудий загвождены. В данном случае мы следовали показаниям полковых формуляров, потому что полку, который первым врубился в парк и выхватил из оного первый приз этого боя, конечно, ближе других известно количество своей добычи.
[71] Кох (Koch). См. Memoires pour servir a l’histoire de la campagne de 1814. T. III, pag. 386.
[72] За исключением ротмистра Глазенаппа, который получил Георгия 4-й степени за дело при Соммепюи.