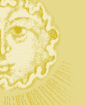Министерство культуры Российской Федерации
Государственный музей Востока
Из серии выставок «История одного экспоната»
Представленная на выставке ваза входит в число редчайших выставочных образцов японского традиционного фаянса в стиле Сацума. Она была создана в конце XIX–начале XX века в период Мэйдзи (1868-1912),начало которого связано со свержением сёгуната Токугава, проводившего в течение более двухсот лет политику изоляции страны от внешнего мира. Новое правительство, созданное после реставрации власти императора, «открыло» Японию зарубежным государствам, положив начало переменам не только в экономике и политике, но и в культурной жизни.В это время Япония активно вышла на мировой рынок со своими художественными изделиями.
В последние десятилетия XIX века в Европе и Америке прошла серия международных выставок, в японский раздел экспозиции которых были включены лучшие образцы Сацума. Япония, входившая в мировое сообщество, демонстрировала накопленные веками богатейшие традиции национального искусства. Ошеломленный Запад с восторгом воспринял новую незнакомую художественную систему. Интерес к японскому декоративно-прикладному искусству, особенно к фарфору и фаянсу, приобрел характер «японской мании». Устойчивой моде на «всё японское» способствовали магия экзотики, многообразие видов декоративно-прикладного искусства и высочайший уровень мастерства, отличающий не только авторские вещи, но и образцы ремесленного производства. На рубеже XIX-XXвв. произведения японского искусства входят в быт широких слоев населения. Лидирующее положение среди них заняли изделия Сацума, которые стали своего рода символом японской керамики периода Мэйдзи. Растущий спрос на них привлек мастеров других центров, которые стали создавать продукцию в стиле Сацума. Подобное производство существовало в Киото, Осака, Токио, Иокогама.
Название этого вида фаянса происходит от княжества Сацума (префектура Кагосима), расположенного в южной оконечности острова Кюсю. В 1597 году глава клана Симадзу привёз из завоевательного похода в Корею 57 корейских мастеров-керамистов, которые создали в местечке Наэсирогава новую печь. В 1617 году корейцы обнаружили в окрестностях залежи пластичной белой глины. В печах Татэно они стали производить изделия с глазурью золотистого оттенка (хатиро-яки), которая в результате обжига покрывалась сеткой кракле. В последнее десятилетие XVII века сацумский фаянс стали украшать эмалевой надглазурной росписью, а в конце XVIII века ввели в декор золотую краску.Печи Сацума процветали до 1868 г., когда пожар нанес промыслу ощутимый ущерб. Упадку способствовало и общее политическое смятение, внесенное революцией Мэйдзи. Но к 1875 г. деятельность керамистов была возобновлена: часть печей преобразовали в промышленную компанию, наряду с этим открылось множество мелких мастерских и студий.
В период Мэйдзи японские керамисты создали особый тип монументальных парадных ваз, предназначенных для дворцовых европейских интерьеров. Вазы особо крупных размеров, подобных представленной на выставке (высота 180 см), ввиду необычайной сложности технологии и транспортировки изготавливались в единичных экземплярах. Они моделировались и обжигались двумя-тремя фрагментами, после чего склеивались шликером - жидкой глиной особого состава. Далее следовало нанесение поверхностного декора и вторичный муфельный обжиг в специально построенных для индивидуальных предметов камерах. Повторный обжиг был для керамистов чрезвычайно рискованным этапом производственного процесса, так как ваза при малейших нарушениях температурного режима могла треснуть или развалиться на куски.
Трудоемкость изготовления многократно увеличивалась также за счет виртуозного мастерства декораторов, которые использовали уникальный способ капельного и точечного наложения разноцветных эмалей. Следует обратить внимание на то, что эта техника оказалась полностью утраченной уже в первой четверти XX века, и секреты ее не могут восстановить ни японские, ни зарубежные мастера. Столь же тщательно разрабатывалась технология позолоты. Активное введение золота отличается разнообразием приемов: от распыления золотой пудры и тонкого письма кистью до послойного нанесения позолоты (техника морикин), инкрустации золотой фольгой (кириганэ), однако преобладающим методом в многообразии вариаций является кинрандэ – специфическое переплетение золотого и красочного слоя, так называемый «эффект парчи разной фактуры». Последняя техника заимствована из арсенала декораторов фарфора и на изделиях из фаянса воспроизводится очень редко из-за больших технических сложностей. Все это создает удивительное впечатление – грандиозная по размерам ваза воспринимается как изысканное ювелирное изделие.
Представленная на выставке ваза простой монументальной формы дополнена фигурными ручками в виде сидящих китайцев, которые держат кольца с рельефными шнурами, завязанными в сложный узел. Центральная часть тулова целиком покрыта сложной многофигурной росписью. Тематически она подразделяется на две части: на одной стороне изображена торжественная процессия с ритуальной повозкой, украшенной наверху фениксом. Внутри повозки торжественно восседает женщина в белых одеждах, скорее всего настоятельница храма. В шествии участвует множество людей, среди которых придворный со штандартом, самураи, представители разных сословий, дети. Обращает на себя внимание любопытная деталь: с крыши храмовой постройки летит вниз ниндзя, которого внизу поджидает стражник с обнаженным кинжалом. С противоположной стороны вазы представлена картина на классический китайский сюжет – игры ста детей. Здесь воспроизведены эпизоды, посвященные традиционным развлечениям. Так, в центре крупным планом дается сцена любования пионами. Она сопровождается такими деталями, как ваза с пышными цветами, сосуд с атрибутами бессмертных даосов, стопка книг. Персонажи вокруг показаны за различными занятиями – чтением книг на террасе, церемониальным омовением, ученым диспутом и т.д. Среди детей можно видеть наставников в одеяниях буддийских и даосских священнослужителей. В изобразительный ряд включены декоративные картуши с традиционными орнаментами, в том числе – «цветущая слива на фоне ломаного льда», «панцирь черепахи» и др., а также круглые медальоны разных размеров, воспроизводящие классические семейные гербы – моны, которые в росписи экспортной продукции выступали как орнаментальные мотивы.
По материалам публикаций В.А. Друзь