|
|

«Отечественная война и Русское общество». Том IV.
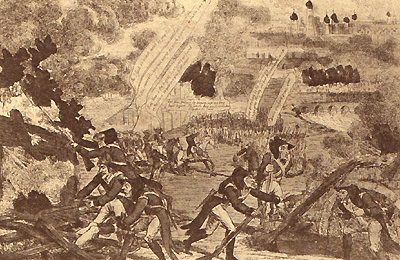
«Теплые зимние квартиры, или Москва, хорошо проветренная Наполеоном и его великой армией». (С англ. кар.).
|
2. Кто сжег Москву?
С. П. Мельгунова.
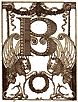 опрос о причинах, вызвавших пожар Москвы, — вопрос, на котором усиленно останавливалось внимание потомства, в сущности, как мы только что могли видеть, и не ставился в сознании современников в первые годы после Отечественной войны. «Весь 1813 и 1814 гг., — говорит Свербеев, — никто не помышлял, что Москва была преднамеренно истреблена русскими» («Записки», I, 79). И эта точка зрения вполне подтверждается перепиской. «Нас считают варварами, — писал Ростопчину С. Р. Воронцов 7 июня 1814 г. («Р. Арх.», 1872), — а французы, неизвестно почему, прослыли самым образованным народом. Они сожгли Москву, а мы сохранили Париж». В том же духе пишет Воронцову и сам Ростопчин: Наполеон «предал город пламени, чтобы иметь предлог подвергнуть его грабежу» (Письмо от 28 апреля 1813г., «Р. Арх.», 1908, VI, 274). «Бонапарт, — как бы добавляет через год своему корреспонденту Ростопчин, — чтобы свалить на другого свою гнусность, наградил меня титулом поджигателя, и многие верят ему» (Письмо от 28 апреля 1815, Ib., 279). Нет, конечно, никакого сомнения, что пожар Москвы не может свидетельствовать «постыдные и хищные дела презренных зажигателей», как выражался Высочайший указ на имя Ростопчина по поводу проекта воздвигнуть «увенчанный лаврами столб» в Москве из оставленных французами артиллерийских орудий «на память многократных побед и совершенного истребления всех дерзнувших вступить в Россию неприятельских сил». Так могло казаться лишь недостаточно осведомленным современникам, которым в то время не приходила даже мысль о преднамеренном сожжении [1] русской святыни. Так констатировалось в правительственных актах — и это было, как мы знаем, одним из самых могущественных средств к возбуждению, так сказать, органической ненависти к врагу, и не только в низах, но и в дворянстве. Если в низших слоях населения возбуждалось тем самым чувство грубо попранной религиозности, то в дворянских и буржуазных кругах столь же сильно захватывались имущественные интересы. Не даром К. К. Павлова в своих воспоминаниях записала: «Хорошо было Пушкину, лет двенадцать позднее, воскликнуть с энтузиазмом поэта:

«Наполеон с С.... после сожжения Москвы»
(Теребенев).
|
«Пылай, великая Москва!» Но когда она пылала, то, сколько я знаю, общее чувство было вовсе не восторженное» («Р. Арх.», 1875, X, 224). И понятно, «весть о пожаре Москвы грянула как громовой удар». «Осторожные» барыни, заперев накрепко свой московский дом, были совершенно спокойны насчет своего оставленного там имущества. При таких условиях, действительно, обвинение французов в пожаре являлось лучшим агитационным средством, что и отметил, как мы уже знаем, в своих воспоминаниях Домерг. Но французы неповинны в пожаре. Им не могла принадлежать инициатива уже потому, что «глупо было бы допустить, — как выражался Рунич, — что французы подожгли город, в котором они нашли в изобилии все, что было необходимо для их существования и который представлял собою к тому же надежный пункт, из которого они могли вести переговоры или руководить военными действиями во все стороны, как из центра, находившегося в их руках» («Рус. Стар.», 1901,III, 604 — 5). Мы знаем, какие усилия употреблялись для борьбы с дезорганизацией, и действительно, было бы «глупо» разрушать одной рукой то, что создается другой. Таким образом, ранняя русская версия о французах-поджигателях абсолютно лишена основания (см. также у Свербеева, I, 433). Единственно, что можно сказать, — это то, что на первых порах завладевшие столицей не обратили должного внимания на начавшийся пожар. Он «не казался опасным, — говорил Наполеон О'Меаре на Елене 3 ноября 1816 г. — Мы думали, что он возник из-за солдатских огней, разведенных слишком близко от домов, сплошь деревянных [2]. На следующий день огонь увеличился, но еще не вызывал серьезной тревоги... На следующее утро поднялся сильный ветер, и пожар распространился с огромной быстротой» («Napoleon dans l'exil». О' Mear, p. 44).

Гр. Ф. В. Ростопчин
(англ. грав.).
|
Версия о французах-поджигателях была хороша только для 1812 г...[3] Какое же имеет под собой историческое основание французская версия? У позднейших историков Отечественной войны мы найдем различное решение этого вопроса. Первый официальный историк войны, отвергая «обвинение в умышленном и заранее обдуманном зажжении Москвы Российским правительством», видит «причины первых пожаров» в сожжении комиссариатских барок на Москве-реке по распоряжению отчасти Ростопчина, отчасти Кутузова. «В то же время, — говорит он, — загорались дома и лавки, но уже ни по чьему-либо приказанию, не по наряду, но по патриотическим чувствованиям» («Сочинения» Михаил.-Данилевского, 1850 г., т. IV, 518). Затем к французским грабителям присоединились «бродяги из русских» и, «вероятно, вместе с неприятелями старались о распространении пожара, в намерении с большею удобностью грабить в повсеместной тревоге» (Ibid., 520). На другой точке зрения стоит ген. Богданович в своей истории Отечественной войны: «Выказывать пожар Москвы в виде гибели Сагунта — столь же нелепо, сколько приписывать его жестокости Наполеона и буйству его войск». По его мнению, «главным или, по крайней мере, первым виновником его был граф Ростопчин». Д. П. Рунич в своих воспоминаниях пошел дальше: «Для всякого здравомыслящего человека есть один только исход, чтобы выйти из того лабиринта, в котором он очутился, прислушиваясь к разноречивым мнениям, которые были высказаны по поводу пожара Москвы. Несомненно только император Александр мог остановиться на этой мере» («Рус. Стар.», 1901, III, 604). «Не пройдет и века, — добавлял Рунич, — как тайна разъяснится и на пожар Москвы, без сомнения, будут смотреть, как на одну из лучших жемчужин, украшающих венец Александра. Ростопчину остается только слава, что он искусно обдумал и выполнил один из самых великих планов, «возникавших в человеческом уме» (Ibid., 606). Фантастическое настроение Рунича, конечно, не войдет в историю, ибо под ним нет решительно никакого фундамента. Отойдет в область предания и вся вообще патриотическая легенда. Тщетны усилия доказать, что «Москва была вольной жертвой нашего патриотизма». Если этот вопрос был возведен «до апогея патриотического самопожертвования», то, по мнению Свербеева, «мыслящая русская публика» ухватилась за него «более ловко, чем искренно» (I, 437). В 1812 г. Д. Н. Свербеев выступил в «Вестнике Европы» с большой статьей, посвященной разбору причин московского пожара в 1812 г. (статья эта вошла в виде приложения в первый том его записок). Отрицая участие Ростопчина в московском пожаре, Свербеев давал такой ответ (и «единственно возможный», по его мнению) на вопрос, кто сжег Москву: «не мы, русские, и не они, французы, задуманно и заранее преднамеренно; и мы, русские, т.е. остававшиеся во время неприятеля в Москве, и они, французы, т.е. все галлы и все их двадесять язык, те и другие, но не задуманно и не заранее намеренно. Может быть, в редких случаях и были между зажигателями русские по чувству ненависти к врагу и из мщения за жестокое с ним обращение неприятеля, но главнейшею причиной пожаров было отсутствие всякой дисциплины в неприятельском войске и всякого порядка между кочующими по городу толпами жителей». «Не должно ли будет согласиться, что Москве труднее было уцелеть, нежели сгореть при таких ужасных беспорядках, продолжавшихся не день, не два, целую неделю» (I, 446 — 7). Если мы поставим вопрос, как сгорела Москва, то, в сущности говоря, замечаниями Свербеева, совпадающими с точкой зрения Михайловского-Данилевского, вопрос будет вполне исчерпан, надо лишь будет добавить, что первыми поджигателями-грабителями явились не французы, а русские (см. статью «Ростопчин — московский главнокомандующий»). Полупьяная толпа, взвинченная прокламациями Ростопчина, растерзав Верещагина, направляется в то же время в Кремль и там с оружием в руках встречает неприятеля. Этой толпой, начавшей поджоги, руководили, конечно, не только корыстные цели, здесь сыграло роль и чувство инстинктивного самосохранения.
И кто бы не поджег Москву (сознательно или бессознательно) — все равно не приходится удовольствоваться, что полудеревянная Москва, при стоявшей засухе, при отсутствии средств для тушения пожара (пожарные трубы были вывезены по распоряжению Ростопчина), при полной дезорганизации, начавшейся еще за три дня до вступления французов, могла сгореть в несколько дней[4].
Но при всем том можно ли игнорировать так решительно утверждение французских источников, что пожар был подготовлен Ростопчиным? Можно ли, по крайней мере, отрицать всякое участие Ростопчина в пожаре? Французские источники в один голос указывают на Ростопчина, как на одного из виновников пожара. «L'incendie de Moscou a ete consu et prepare par le general gouverneur Rastopchine», гласили бюллетени великой армии. Они утверждали, что поймано до 300 поджигателей со взрывчатыми веществами, что при царившем безначалии пьяные колодники бегали по улицам и бросали огонь. Наиболее полное объяснение пожара, как акта, приуготовленного заранее, мы найдем в протоколе от 24 сентября военной комиссии, судившей поджигателей в числе 26 человек («Бумаги 1812 г.», П. И. Щукина, ч. I, 129). Комиссия свидетельствует, что на суде фигурировали «разные вещи, употребленные к зажиганию, как-то: фитили ракет, фосфоровые замки, сера и другие зажигательные составы, найденные частью при обвиненных, а частью подложенных нарочно во многих домах». Эти зажигательные средства, по мнению комиссии, были приготовлены Шмитом (т.е. известным нам Леппихом): «построение великого шара только выдумано для того, чтобы скрыть истину». В подтверждение комиссия ссылалась на прокламации Ростопчина с угрозой сжечь французов, если они осмелятся войти в Москву. Таким же доказательством являлось для нее выпуск из тюрьмы преступников, которым дана свобода с тем, чтобы они «подожгли город в двадцать четыре часа» по вступлении французских войск. Затем — свидетельствует протокол комиссии — «разные офицеры, военнослужащие в российской армии и полицейские чиновники получили тайно приказ остаться в Москве, будучи переодеты, чтобы распоряжаться зажигателями и дать им сигнал к запалению». Наконец «бессомнительно доказано, что губернатор Ростопчин, для отнятия всех средств тушить пожар, приказал вывезть... из 20 кварталов в Москве все пожарные трубы, дроги, крючья, ведра и все проч. пожарные орудия». Все это явно доказывает, что «пожар произошел от уложенного плана».
Первый официальный историк Отечественной войны назвал процитированный протокол военной комиссии сцеплением «вымыслов и лжи». Но уже Богданович несколько мягче выразился о военно-судебной комиссии: здесь «ложь перемешана с истиною». И действительно, если вся концепция французской версии, быть может, и не выдерживает критики, то почти все отдельные факты, приведенные военно-судной комиссией, не могут быть аннулированы. Вопреки утверждениям официальных историков, «колодники» не были вывезены из Москвы: брошенные на произвол судьбы, обреченные к полуголодному существованию, они участвовали и в упомянутых выше «патриотических» подвигах и в разграблении домов — им ничего другого и не оставалось делать. В составе 26 подсудимых мы видим поручика 1-го Московского пехотного полка Игнатьева, солдата и девятерых полицейских (Soldat de police a Moscou). Из свидетельств самого Ростопчина мы знаем, что он выбрал нескольких наиболее надежных полицейских, которые должны были остаться в Москве и доносить московскому градоправителю о положении дел. Они остались и исправно отправляли свою миссию, за что впоследствии были вознаграждены. Что же касается зажигательных веществ, найденных в домах и у подсудимых, то и здесь, несомненно, была доля правды. У нас нет никаких реальных оснований утверждать, что зажигательные снаряды, фигурирующие в качестве вещественных доказательств в протоколах французской военной комиссии, являются вымыслом. Основания могут быть исключительно лишь психологические — Наполеону выгодно было для реабилитации в общественном мнении представить дело таким образом. Как ни сильны подчас бывают для исторических выводов подобные соображения, все же они требуют проверки. Бесспорно, шар Леппиха сам по себе не имеет никакого отношения к пожару (среди ранних иностранных историков высказывалась мысль, что Леппих дал первую мысль о сожжении). Но после Леппиха остались «горючие материалы». Это факт, не подлежащий сомнению. Они и послужили, по словам Ростопчина, «предлогом, за который с жадностью ухватились, чтобы доказать, что в этой лаборатории приготовлялись зажигательные материалы для сожжения Москвы» (Воспоминания. «Р. Ст.», 1889, XII)[5]. Но как быть с тем, что все французские мемуаристы, современники, участники великой армии — солдаты и офицеры без различия, действительно в один голос утверждают, что у поджигателей были «горючие материалы». Возьмем ли мы сержанта Бургоня, возьмем ли кого-нибудь другого — мы встретим все одно и то же в различных вариациях. Нет ничего более легкого, как утверждать, что все эти показания очевидцев недостоверны, что все это — позднейшие повторения французской официальной версии. Но есть ли для этого какое-нибудь основание: подчас рассказ очевидца отличается такой непосредственностью, что сразу можно увидать, где он рассказывает с чужих слов, по слухам, и где передает личные впечатления и наблюдения. Несомненно, рассказы очевидцев окрашены большой дозой субъективизма, детали часто очень недостоверны, но это все же не повод для поголовного отрицания их рассказов. Сержант Бургонь в своих воспоминаниях (цитирую по русскому переводу в издании Суворина) много раз рассказывает, как он со своим патрулем наталкивался на поджигателей с «факелами», перебегавших из одного дома в другой, он рассказывает, как ему приходилось охранять, по просьбе мирных обывателей, дома от поджогов и т. д. «По крайней мере, две трети этих несчастных (забранных в плен патрулем) были каторжники... остальные были мещане среднего класса и русские полицейские, которых легко было узнать по их мундирам» (39). Свидетельство простого сержанта, рассказ о непосредственных наблюдениях представит, конечно, гораздо большую ценность, чем знаменитый рассказ Сегюра, всецело передающий официальную версию о пожаре, поджигателях и ракетах. Возьмем ли мы артистку Луизу Фюзи (Fusil, «Souvenirs d'une Femme sur la Retraite de Russie», Paris, 1911), возьмем ли итальянца офицера Ложье (Laugier, «La grande armee», Paris), возьмем ли полковника Комба («Memoires», Paris, 1896), возьмем ли генерала Дедема («Memoires», Paris, 1900), возьмем ли письмо Марэ, герцога Бассано, датированное 21 сентября (Chuquet, «Lettres de 1812», Paris, 1911), — мы повсюду встречаемся с одним и тем же. Единогласие поразительно. Марэ говорит о «горючих материалах», найденных в домах (Chuquet, 48), а капит. Бургоэн, остановившийся в доме Ростопчина на Лубянке, рассказывает, как вскоре после прибытия в трубах была обнаружена кадка с фитилями, ракеты и т. д. («Souvenirs», 167). Последнее сообщение особенно любопытно...[6]

Расстрел поджигателей. (Верещагин).
|
Однородные факты, сообщаемые иностранными мемуаристами, во всяком случае, показывают, что московская полиция во главе с Ростопчиным замешана в пожаре. Сообщения современников-иностранцев можно добавить и сообщениями русских современников (напр., о горючих веществах, спрятанных в некоторых домах, о поджогах людьми, нанятыми Ростопчиным, говорит ген. Левенштерн в своих воспоминаниях («Р. Ст.», 1901, I, 105). Но в особенности приходится обратить внимание на показание одного из самых достоверных свидетелей-очевидцев московских событий летом и осенью 1812 г. — Бестужева-Рюмина. В своем «Кратком описании» он рассказывает, как он пошел посмотреть (в то время, когда французы еще не вступили в город), что делается в городе. «На Лобном месте, что близ кремлевских Спасских ворот, площадь была полна народу, так что тесно было; в воздухе же был нестерпимый смрад от того, что лавки москотильного ряда были уже зажжены, и, как говорили, зажигал лавки сам частный пристав городской части, какой-то князь» (86)[7]... Если мы сопоставим эти факты с предписанием Ростопчина 1 сентября полицмейстеру Ивашкину о вывозе пожарных труб («Щук. Сб.», I, 96) с приказом его разбить бочки со спиртом и водкой, с распоряжением о сожжении комиссариатских барок у Симонова монастыря и Красного Холма (что и было исполнено «по мере возможности, в виду неприятеля до 10 часов вечера», как доносил пристав Вороненко), то еще очевиднее будет довольно деятельное участие московской полиции в первых поджогах. Ростопчин выражал полную уверенность, что Москва сгорит, как только вступят в нее французы. Мы сошлемся в данном случае не на намеки, которые делал Ростопчин в своих объявлениях московскому населению или в ранних письмах к Багратиону и разговорах с Ермоловым («Воспоминания Ермолова», I, 210), не на апокрифическую в значительной степени беседу, которую ведет перед отъездом из Москвы Ростопчин со своим младшим сыном и которую передает внук Ростопчина Сегюр: «Приветствуй Москву в последний раз, через 1/2 часа она будет в огне» («Vie», 239), и на свидетельство принца Евгения Вюртембергского, что Ростопчин считал лучше сжечь Москву, чем отдавать ее французам (Ib., 230)[8]. Мы сошлемся лучше на два письма Ростопчина от 1 сентября, из которых одно было адресовано императору Александру, а другое — жене. «Москва в руках Бонапарта будет пустынею, если не истребит ея огонь, и может стать ему могилою», пишет Ростопчин императору («Р. Арх.», 1892, VIII, 530). «Город уже грабят, — сообщает Ростопчин жене, — а так как нет пожарных труб, то я убежден, что он сгорит». («Р. Арх., 1901, VIII, 464). «Я хорошо знал, — пишет Ростопчин через неделю жене (9 сентября), — что пожар неизбежен» (Ib., 468). Правда, через два дня он приписывает себе только мысль о сожжении Москвы, которую не удалось выполнить. «Моя мысль поджечь город до вступления в него злодея, — сообщает 11 сентября Ростопчин жене, — была полезна. Но Кутузов обманул меня... Было уже поздно...» (Ib., 472). Через месяц, 13 октября, почти то же Ростопчин повторяет и Александру: «Скажи мне два дня раньше, что он (Кутузов) оставит Москву, я бы выпроводил жителей и сжег ее» («Р. Арх.», 1892, VIII, 555). Многие хотят видеть в последних указаниях как бы подтверждение того, что Ростопчин, лелея, быть может, мысль о сожжении Москвы, фактически не принимал в нем участия. Вряд ли, однако, это отрицание может опровергнуть приведенные выше показания. При всех разговорах и намеках на возможность сожжения Москвы действительность и сознание современников были очень далеки от такой возможности. При том впечатлении, которое произвел на русское общество пожар Москвы; при том негодовании против варварского поступка французов, какое он вызвал, — признание со стороны Ростопчина, что он участвовал в сожжении Москвы, хотя бы даже с патриотической целью, показалось бы чудовищным и вызвало бы скорее бурю негодования. Ростопчину неизбежно приходилось молчать о своем «патриотическом» подвиге. Нельзя забывать и того, что только в официальных реляциях можно было утверждать, что Москва оставлена пустой, что из нее все вывезено. Современники, зная правду, конечно, не верили подобным сообщениям, тем более, что в момент оставления Москвы, в момент бегства из Петербурга, решительно никаких сознательных патриотических целей не ставилось. Содействуя поджогам Москвы, не ставил каких-либо сознательных патриотических целей и сам Ростопчин: это была простая месть человека, находившегося «в крайне раздраженном состоянии», «слепая ненависть», как выразился один из современников. Ростопчин подводил итоги своим многочисленным обещаниям, которые все оказались мыльными пузырями. И эта «слепая ненависть» отзывается, действительно, чем-то «скифским», если мы припомним, что в Москве на милосердие неприятелей оставляли тысячи русских раненых...
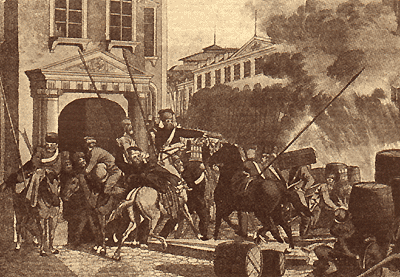
Русские покидают Москву сент. 1812 г.
(С совр. Нюренбергской гравюры).
|
При таких условиях Ростопчину о своем «подвиге» приходилось умалчивать и стирать следы своего участия в московском пожаре. Вернувшись в Москву после французов, Ростопчин еще в большей мере должен был считаться с враждебным настроением тех, кто потерпел материальные убытки от пожара. Он сам признавался в письме к Воронцову, что «многие верят ему», т.е. Наполеону. И мы видим, что Ростопчин принимает довольно энергичные меры к прекращению нежелательных слухов: он еще с большим усердием предъявляет обвинение в политической неблагонадежности и отдает в «рекруты» тех, которые «много врут о разорении Москвы»... Проходят годы. Непосредственные впечатления от пожара ослабевают. За границей, как мы знаем (см. статью Д. А. Жаринова), творится «патриотическая легенда» о пожаре Москвы. Ростопчин делается европейской знаменитостью. Его поступок с сожжением собственного поместья Воронова возводится в перл патриотического воодушевления: «Сожигатель Эфесского храма, — говорит Вильсон, — доставил себе постыдное бессмертие, разрушение Воронова должно остаться вечным памятником русского патриотизма» («Рус. Стар.», 1897, X, 199). Ростопчин чрезвычайно чувствителен к славе. Лучше всего это может показать письмо, адресованное из Москвы 28 апреля 1814 г. Воронцову: «Сделайте же мне одолжение, устройте, чтобы я имел какой-либо знак английского уважения, шпагу, вазу с надписью, право гражданства». Ростопчин прекрасно сознает, что его «известность держится на пожаре Москвы», как пишет он одной из своих дочерей (Segur, «Vie», 266). Бонапарт «соделал своими ругательствами имя мое незабвенным». «В Англии народ желал иметь мой гравированный портрет», в «Пруссии женщины модам дают имя мое», так характеризует Ростопчин свою заграничную популярность («Рус. Вестн.», 1813, № 5. Соч. 301). Человек столь мелкого самолюбия упивался своей славой, хотя бы она основывалась на «скифском» поступке. Ростопчин попадает в Париж, где он разыгрывает из себя знаменитость. Все его хотят видеть. Издаются его портреты с подписями «L'incendiaire Rostopchin». Московский властелин в отставке удовлетворен и вовсе не намерен возражать против тех «ругательств», которые, по собственному признанию, создают ему славу. И только в 1823 г. Ростопчин выступает с знаменитой брошюрой «La verite sur l'incendie de Moscou», в которой писал: «я отказываюсь от прекраснейшей роли эпохи и разрушаю здание своей знаменитости» (Сочин. Изд. 1853 г., 202). Зачем издал Ростопчин эту брошюру через десять лет молчания? «Он хотел сложить ответственность с одного себя за последствия пожара, — отвечает внук Ростопчина (Ib., 263). — Он хотел вернуться в Москву и зная, что его «патриотический подвиг» на родине далеко не возбуждает того восторга, уважения или любопытства, как в Западной Европе, пишет брошюру, которую посылает своими компатриотам, как «залог для примирения» (Segur, «Vie», 270). «Казалось бы, — писал Свербеев в своей статье о пожарах Москвы, — что после такого резкого отречения Ростопчина от возводимого на него подвига, после такого искреннего и вместе насмешливого на то негодования с первых строк его знаменитой брошюры[9], после всех приведенных им в ней доказательств, что он никогда не замышлял сожжения Москвы[10], современники и потомство оставят его память в покое и перестанут прославлять его имя небывалым подвигом. Напротив того, чем более отдалялась от нас знаменитая эпоха, тем упорнее стали мы писать, печатать, проповедывать, «что Москву сжег Ростопчин, что Москву сожгли русские»[11]. Мы уже цитировали мнение самого Свербеева, с которым в значительной степени нельзя не согласиться. Но это мнение нисколько не опровергает участие Ростопчина в поджогах — оно свидетельствует только, что не было никакого разработанного правительством плана сожжения Москвы, что Москва вовсе не была вольной жертвой «нашего патриотизма»[12].
С. Мельгунов.

«Я сжег Москву, меня сжигает дьявол» —
немец. карикатура на Ростопчина (Ziegler).
|
[1] В сущности о них говорит единственное только донесение Тутолмина 11 ноября императрице Марии Феодоровне: «Когда я и подчиненные мои с помощью пожарных труб старались загасить огонь, тогда французские зажигатели поджигали с других сторон вновь. Наконец некоторые из стоявших в доме жандармов, оберегавших меня, сжалившись над нашими трудами, сказали мне: «оставьте, — приказано сжечь».
[2] От этих бивачных огней по рассказам Глинке оставшегося в Москве гравера Осипова «загорелся дом Филипповского» (Глинка. «Записки о Москве», 64).
[3] Несуразность ее очевидна даже для С. Н. Глинки: «ни в Париже, ни при вторжении в Россию пожар московский не заглядывал в мысли Наполеона» («Записки о Москве», 1837 г., 66). Жозеф де-Местр мог лишь удивляться длительному существованию этой версии: «До сих пор еще, — писал он в своем донесении 2 июня 1813 г., — в народе говорят, да и повыше народа, что Москву сожгли французы: так еще сильны здесь предрассудки, убивающие иногда всякую мысль наподобие гасильников, которыми тушат свечи» («Р. Арх.», 1912, I, 48).
[4] «Кто как ни выставляй патриотизм, — замечает Александров в «Очерках моей жизни» («Р. Арх.», 1904, XII), — но и Москва в 1812 г. горела не мало от своих же злоумышленников». И совершенно понятно, что французам приходилось постоянно защищать мирных обывателей. Об этом рассказывают почти все мемуаристы. Также, конечно, прав Наполеон, говоривший, что русские всеми мерами помогали, пока это можно было, тушить пожар.
[5] Источником этих слухов отчасти были иностранцы, оставшиеся в Москве и, конечно, недостаточно осведомленные о предприятии Леппиха. Вот что говорит, напр., в своих воспоминаниях аббат Серюг: на даче Репнина «on се fabriqueient des pieces de feux artificiels, des fusees a la Congreve et d'autres instruments, destines a l'execution du grand projet» («Les Francais a Moscou». Relation inedite publiee par le Libercier. Moscou, 1911, 27).
[6] То же подтверждает Боссе («Mem.», 90), который передает со слов д-ра Жоанно, жившего там, что в печных трубах ростопчинского дома были найдены взрывчатые вещества и горючие материалы. Ростопчин в позднейших своих объяснениях по этому поводу писал: «Один французский медик, стоявший в моем доме, сказывал мне, что нашли в одной печи несколько ружейных патронов... они могли быть положены после моего выезда, чтобы через то подать еще более повода думать, что я имел намерение сжечь Москву. Равномерно и ракеты... могли быть взяты в частных заведениях» («Правда о пожаре Москвы». Сочинения, изд. 1853, 206 — 7).
[7] Глинка передает другую версию: «Я слышал от гравера Осипова, шедшего мимо рядов в день оставления Москвы, что в москотильный ряд брошена была бомба» («Записки о Москве», 63).
[8] По словам Евг. Вюртембергского, Ростопчин перед советом в Филях сказал ему: «Если бы меня спросили, то я бы сказал: уничтожьте город прежде, нежели отдавать его неприятелю» («Memoires», II, 154).
[9] «Ennuye d'entendre debiteria meme fable, je vais faire parler la verite qui seule doit dicter l'histoire».
[10] Неопределенное оправдание Ростопчина производило весьма различные впечатления на читателей брошюры: для Свербеева это полное отрицание, а по мнению Рунича, Ростопчин в этой брошюре «захотел, как ворона, одеться в павлиные перья, приписав лично себе дело, за которое он подлежал бы ответственности перед судом разума и совести, если бы он оделал его без монаршего приказания, по собственному усмотрению» (Ib., 606). Издатель «Русского Архива» П. И. Бартенев считает, что Ростопчин «отрицает только последовательные и преднамеренные правительством распоряжения о сожжении Москвы»... Ростопчин «только приписывает честь высокого самопожертвования не одному себе, но всему русскому народу». Поводом для такого заключения могло служить следующее место в «Правды»: «Главная черта Русского характера... скорее уничтожить, чем уступить... В частных разговорах с купцами, мастеровыми и людьми простого звания, я слыхал следующее выражение, когда они с горестью изъявляли свой страх, чтобы Москва не досталась в руки неприятеля: «лучше ее сжечь... я видел многих людей спасшимися из Москвы после пожара, которые хвалились тем, что сами зажигали свои дома» (Соч., 262).
[11] Сожгли из чувства патриотизма, как доказывает в своих позднейших воспоминаниях ген. Ланжерон: «Пожар Москвы, это геройское деяние, это ужасное, величавое решение, вызванное удивительным самоотвержением и патриотизмом самым пламенным» (Из записок, «Р. Арх.», 1895, III, 150).
[12] Для Свербеева доказательством того, что Ростопчин не участвовал в поджогах Москвы, служит, главным образом, то, что тайные пособники Ростопчина доселе никем не открыты. Вероятно, они никогда не будут открыты. С этим фактом приходится мириться. Но нетрудно предположить, что этими пособниками и были оставленные Ростопчиным полицейские, этим пособником был всегда полупьяный сыщик Яковлев, являвшийся правой рукой Ростопчина в подготовлении народного мнения и занимавшийся распространением афиш уже после вступления французов в Москву (Заметки Булгакова, «Р. Арх.», 1866, 702).
«Я имею полное право, — добавляет, кроме того, Свербеев (I, 439), — что, если бы Ростопчин хотя сжег Москву, он предупредил своего приятеля Обрескова... Я имею еще большее право думать..., что если бы он сделал какие-либо распоряжения о сожжении Москвы, то собственный его великолепный на Лубянке дом загорался бы первый». Весьма вероятно, что это и было бы так. Ростопчина можно упрекать в саморекламе и самодурстве, но не в корысти. Если мы примем во внимание сведения, сообщенные Бургоэнем, то сохранность дома Ростопчина, вероятно, придется объяснить поспешным его 6егством перед собравшейся на дворе толпой, которая была враждебно настроена к московскому управителю.
|
|