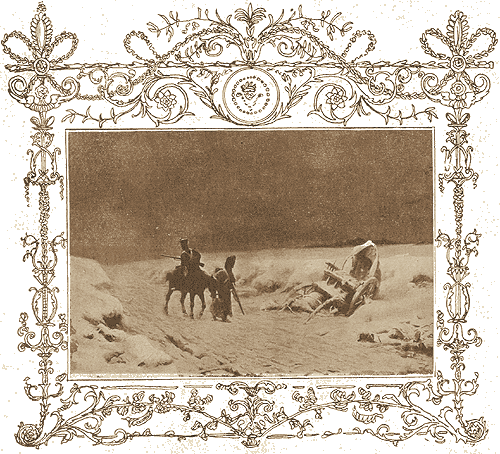
Эпизод из отступления (Вайса).
|
Франция без Наполеона.
И.М. Хераскова
1. Внутреннее состояние Франции в момент отъезда Наполеона.

езадолго до отъезда из Парижа в мае 1812 г. Наполеон обратился с конфиденциальным письмом к влиятельным представителям общества, желая узнать их мнение о внутреннем состоянии страны. Судя по тому, что говорит о полученных Наполеоном ответах Савари, бывший в то время министром полиции, можно думать, что они были далеко не успокоительного свойства. «Слишком многие люди, — пишет он в своих мемуарах по поводу этих ответов, — или боятся говорить о неприятных вещах или не умеют сказать о них иначе, как в неприятной форме»
[1].
Мало успокоительного вынес Наполеон и из своего последнего разговора с префектом полиции Паскьэ накануне отъезда. Паскьэ рассказывает в своих воспоминаниях[2], что в ответе на его доклад Наполеон, после долгого раздумья, сказал: «Все это правда, и тут еще одна трудность, кроме массы других, которые ждут меня в этом крупнейшем и опаснейшем предприятии, на которое я когда-либо решался».

На морозе. (Верещагина).
|
Едва ли когда-либо доселе Наполеон с большей тревогой оставлял свое государство. Придворные балы, маскарады и спектакли, которых в течение зимы 1811—1812 года было дано небывалое количество, должны были, по-видимому, маскировать эту тревогу от постороннего взора. Своим же приближенным, в роде Савари, он несколько раз повторял перед отъездом: «Огромную услугу оказал бы мне тот, кто избавил бы меня от этой войны». (Due de Rovigo. Mem., VI, 226).
Главная причина тревоги Наполеона заключалась в тяжелом экономическом положении страны, в тесной связи с которым находилось тревожное настроение народа. Континентальная система, введенная Наполеоном в угоду французским промышленникам и как средство сокрушения могущества Англии, повредив интересам этой последней, еще больший экономический ущерб нанесла, в конечном счете, континентальной Европе и самой Франции. Недостаток и дороговизна сырья довела французскую промышленность до тяжелого кризиса; многие из солидных фирм потерпели крах, остальные держались казенными субсидиями. Обороты внешней французской торговли за пять лет до 1811 года понизились в 1 1/2 раза[3]. Недовольство капиталистов не оставалось для Наполеона тайной; незадолго до отъезда он в следующих энергичных выражениях отчитал вызванных к нему представителей торгово-промышленного класса: «Вы толкуете между собой, что я не более как солдат и, кроме своего ремесла, ничего не знаю, что я мало смыслю в торговле, что из окружающих меня также никто не способен подать мне разумный совет, и что мои крайние меры разорили все. Всем этим вы доказываете, что сами ничего не понимаете в торговле и промышленности. Вы думаете, что состояния наживаются в один день, как одно сражение решает иногда судьбу всей войны?.. Я-то лучше знаю ваши дела, чем вы мои»[4].

«1812 год» (Блини).
|
Наиболее тяжело экономический кризис отражался, конечно, на положении малоимущего и рабочего класса... Остановка промышленных предприятий и затруднения транспорта вели к безработице и страшной дороговизне жизни, при чем к более длительным причинам кризиса прибавилось случайное, в виде крупного недорода 1811 года. Хлебные цены росли с ужасающей быстротой: в 1809 году за гектолитр пшеницы платили в среднем 15 франков, а в 1812 г. средняя цена пшеницы возросла до 34 фр., а в отдельных случаях до 60 и 75 фр. за гектолитр. В нехлебородных местностях сельское население вместо хлеба в 1812 году питалось уже отрубями и лебедой[5]. На почве безработицы и дороговизны жизни уже в конце 1811 года начали вспыхивать по местам рабочие беспорядки, а в начале 1812 г. брожение проявилось и в Париже; для поддержания умеренных цен на печеный хлеб правительство стало выдавать здесь пособие булочникам, хотя это и вело к вздорожанию муки и других продуктов; в феврале пришлось раздавать парижскому населению даровой хлеб и устраивать дешевые столовые. В провинции брожение принимало еще более крупные размеры, так как на провинцию экономические мероприятия правительства долгое время не распространялись. Жестокость, с которой правительство Наполеона подавляло малейшее проявление того брожения, ясно показывала, однако, какую тревогу оно в нем вызывало. И чисто полицейские и экономические меры Наполеона носили одинаково деспотический характер, и направлялись не только на «бунтовщиков», но и на главную опору наполеоновской монархии — землевладельцев. В своем стремлении покончить до своего отъезда с беспорядками, возникавшими на почве продовольственного вопроса, он готов был показать себя чуть ли не социалистом: «Собственники, — говорил он, — никогда не бывают в согласии с народом, и первая обязанность государя, не слушая их софизмов, стать на сторону народа»[6].
Наиболее ярким проявлением народного недовольства были мартовские беспорядки в городе Кане (Caen) в Нормандии. 9 марта огромная толпа, собравшись на рынке, стала шуметь и кричать по поводу дороговизны хлеба. Когда префект вместе с другими властями попытался успокоить кричавших, они осыпали его оскорблениями. Вечером толпа чуть не разгромила соседнюю мельницу — разбила там окна и рассыпала мешки с зерном. К ночи беспорядки прекратились, однако, сами собой, и утром город принял обычный вид. Местные власти отнеслись к событиям довольно благодушно: префект расклеил воззвание, упрекавшее население за то, что оно поддалось убеждениям корыстных вожаков, епископ в пастырском послании напомнил своим пасомым о Боге, питающем небесных птиц, и все думали, по-видимому, что этим все дело и кончится. Но центральные власти рассудили иначе: в Париже было решено «примерным образом наказать бунтовщиков», и в Кан был командирован, снабженный обширным полномочием, адъютант императора граф Дюронель с четырьмя тысячами солдат и огромной армией сыщиков. С их прибытием в городе воцарился настоящий террор. Обыватели не смели показываться на улицах; тюрьмы наполнились арестованными. Организованный наскоро военный суд 14 марта уже вынес свой жестокий приговор, осудивший 8 человек (в том числе 3 женщины) на смертную казнь, 8 на каторжные работы и 9 в долголетнюю тюрьму. Вслед за тем было решено терроризировать и землевладельцев. В апреле министерство разослало префектам циркуляр, предписывавший им обязать всех фермеров и собственников земли доставлять на рынок определенное количество хлеба для продажи его по предписанной им таксе. «Если, — говорилось в циркуляре, — вы встретите со стороны землевладельцев сопротивление, то растолкуйте им, что такова воля самого монарха, и что она клонится к их собственным интересам: указанные меры предупреждают беспорядки и проявление необузданности, которыми всегда сопровождается продовольственная нужда, и которые легко могут нарушить спокойствие тех, кто не захочет содействовать этому акту человеколюбия и патриотизма».
Накануне своего отъезда Наполеон посредством императорского декрета облек эти меры в форму закона, хотя большинство министров и настаивали на их нецелесообразности. «Это был прощальный жест по адресу беднейшей части народа, — замечает по этому поводу Паскьэ[7], — при помощи этой меры он хотел на время отсутствия обеспечить себе ее спокойствие».
Принудительное снабжение хлебом рынка вызвало со стороны помещиков и крестьян такое упорное сопротивление, что уже в августе все предписанные циркуляром и императорским декретом меры пришлось отменить. Вот что писал по поводу их префект Кальвадоса через месяц после опубликования декрета: «Цены на зерновой хлеб все растут и дошли до невероятной цифры 75 франков за гектолитр. Общественный порядок после примерной расправы с бунтовщиками хотя и не нарушается, но нищета дошла до крайних пределов... Декрет о таксе обрадовал было население, но радость сменилась печалью, когда в результате их продукт исчез совершенно с рынка. Пришлось прибегать к реквизициям, а в настоящее время захватывать иногда даже необходимые для самих земледельцев запасы. В дома упорствующих были введены гарнизэры[8] и повсюду произведена точная проверка запасов. Виновных в даче ложных показаний немедленно арестовывали и предавали суду. Но все доступное нашей регистрации количество хлеба будет скоро исчерпано, ничтожность нашей работы не замедлит обнаружиться, и тогда реквизицию придется производить наугад, что отнимет у дела общественного продовольствия всякую почву. Не могу подумать без ужаса о тех несчастиях, которые обрушатся на нас, если хлеба не хватит в течение хотя бы дня»[9].

Возвращение Наполеона из России.
(Карт. Алексеева. 1849 г.).
|
Таковы были затруднения, переживавшиеся правительством на почве экономического кризиса. Не менее серьезным источником народного недовольства были в то время рекрутские наборы. Количество призываемых на военную службу росло с каждым годом; в течение 1811 года было призвано уже 300.000 человек, а в 1812 году общее количество рекрутов поднялось до 427 тысяч. В солдаты забирали сплошь и рядом людей, не достигших призывного возраста или по разным причинам уже освободившихся от призыва: организация в 1812 г. так называемой национальной гвардии имела специальной целью привлечь на военную службу всех взрослых мужчин, по каким бы то ни было причинам не попавшим в солдаты. Брали без всякого жребия и гарантий законности, а попавшей на службу редко уже возвращался домой. Забирали, в огромном количестве и лошадей, для выкупа которых не отпускалось часто никаких кредитов. Население упорно и злобно боролось с рекрутчиной. В горах и лесистых местностях бежавшие от военной службы соединялись в крупные, вооруженные дружины, вступавшие иногда в настоящие сражения с отрядами посылавшихся против них солдат. Другие, чтобы не попасть на военную службу, калечили себя — вырывали зубы, рубили пальцы и кололи глаза; беременные женщины с опасностью для жизни устраивали преждевременные роды, так как рождение ребенка могло спасти отца от рекрутчины. И 1811 г. число неявившихся к призыву рекрутов достигло 80.000. Правительству пришлось прибегнуть к самым решительным мерам — карательным отрядам (colonnes mobiles), гарнизэрам, круговым порукам, распространявшимся порой на целые общины. Наборы 1812 года были в глазах населения особенно непопулярны, в виду непопулярности самой войны. По словам Паскьэ, «если недовольство, вызывавшееся ими, не доходило до открытого бунта, то, во всяком случае, они во всех классах населения вызывали глубокую скорбь»[10].
На этой почве всеобщего недовольства военщиной и экономической политикой государства больные вопросы его внутренней и внешней политики принимали особенно острую форму. В числе их на первом месте стоял церковный вопрос — конфликт императора с папой. С 1809 года папа Пий VII содержался по приказу императора в Савоне на почти тюремном режиме. Но лишенный фактической власти над церковью, он приобрел в глазах католиков тем больший авторитет в качестве моральной силы, в качестве символа поруганной деспотическим государством церкви. Духовенство, которое еще так недавно оказывало Наполеону огромные услуги и освящало в глазах населения его власть, теперь, в лице наиболее влиятельной своей части, переходило в лагерь его тайных и явных врагов. В союзе с роялистским дворянством оно стало агитировать против империи, усиленно распространяя строго запрещенную во Франции буллу Пия VII об отлучении Наполеона от церкви. Последовали крутые меры вплоть до арестов и ссылок священников и даже епископов, но это только обостряло положение. Попытка Наполеона объявить себя, по примеру Генриха VIII, главою национальной церкви потерпела полное крушение. Во главе католической оппозиции стояла, основанная иезуитами еще в 1801 году, светская конгрегация св. Девы. Сперва в качестве благотворительной организации она существовала открыто, а затем, после того, как правительство распустило ее, еще с большим рвением действовала в качестве подпольной организации[11]. Уезжая из Франции, Наполеон был озабочен и церковным вопросом. На специальном совещании министров было решено усилить надзор за папой и водворить его неподалеку от Парижа. Уже из Дрездена Наполеон торопил Савари привести в исполнение эту меру, ссылаясь на появление в Генуэзском заливе английской эскадры, имеющей будто бы своей целью похищение папы из Савоны и водворение его в Риме. Савари немедленно исполнил приказ: папа опять был схвачен жандармами и под их конвоем доставлен из Савоны в Фонтенебло. Из боязни народных манифестаций его везли так быстро, что дорогой старик едва не умер.

«Он!» (Фламон).
|
Другим больным вопросом внутренней политики Франции было положение печати и общественных свобод. Бюрократический режим, тесным кольцом охватил страну, стараясь задушить в ней все проявления общественной жизни. Строившиеся одна за другой государственные тюрьмы не пустовали никогда. Для наполнения их не требовалось судебных формальностей: по откровенному выражению императорского указа, они именно и предназначались для тех, кто «не мог быть привлечен к суду по недостатку улик», или «публичный процесс над кем грозил спокойствию государства». Народное представительство, не существовало даже в той жалкой форме, в какой оно сохранялось еще по конституции VIII года: Трибунат был окончательно упразднен, а Законодательный корпус влачил жалкое существование в качестве декорации при самодержавной власти. Важнейшие законодательные меры вплоть до утверждения бюджета вводились императорскими декретами или, для большей торжественности, постановлениями сената, а заседания Законодательного корпуса занимались в это время такими, не имеющими к законодательству никакого отношения предметами, как доклады об египетских иероглифах или изобретении компаса[12]. В течение всего 1812 г. Законодательный корпус ни разу, впрочем, и не созывался. О положении при Наполеоне печати достаточно всем известно. Известно, какое значение он придавал ее оппозиционному влиянию: «Если, — говорил он, — я сниму с печати узду, я и трех месяцев не останусь у власти». Ко времени русской войны узда на печати затянулась еще крепче. Газеты с 1810 года были подчинены предварительной цензуре префектов, и число их ограничено одной на каждый округ; только в Париже, в виде исключения, были разрешены три политические газеты, не считая официального «Moniteur». Нечего и говорить, что в газеты эти не проникало ничего, что имело хоть косвенное отношение к волновавшим современное общество вопросам. Читая их, можно было подумать, что ничто не интересовало тогда французов, кроме парадных заседаний сената, бракосочетаний иностранных принцесс и прорезыванья молочных зубов у римского короля. В так называемых «внутренних известиях» они могли прочесть кроме этого разве о быке, сорвавшемся с бойни в каком-то провинциальном городишке, или о молнии, убившей крестьянскую семью, неосторожно ставшую под дерево во время грозы, а в отделе «внешних известий» об успехах оппозиции в Англии и о нищете английских рабочих, «завидующих счастливому жребию и довольству своих французских товарищей»[13]. Единственно полным и содержательным отделом был в газетах отдел театральной и литературной критики, занимавшей обыкновенно три четверти всего содержания газеты. Но даже и этот отдел составлялся иногда при прямом участии полицейской власти. Несомненные документы свидетельствуют, что правительство старалось и эстетические наклонности граждан эксплуатировать в своих интересах. В конце мая 1812 года некто Лемонтэ в письме к министру полиции обращал его внимание на недостаточное, по его мнению, количество литературных и театральных новостей в парижских газетах. «Между тем, — писал Лемонтэ, — это самая лучшая пища для праздных умов парижан, которые за недостатком ее обращаются к политике»... Оживленная дискуссия по этим вопросам была бы в настоящее время как нельзя более уместной. Распределив между газетами, роли, можно организовать борьбу мнений, которая отличнейшим образом займет внимание публики и послужит темой для разговоров в салонах... Если ваше сиятельство одобрит мою идею, я при посредстве одного любителя итальянской музыки открою военное действие на страницах «Journal de l'Empire», а через г. Лакретеля постараюсь, чтобы кто-нибудь из чемпионов французской музыки, вооруженный с головы до пят, выступил во «Французской Газете». Эта маленькая война на известное время отвлечет внимание от большой»[14]. Доклад был горячо одобрен министром, и дебаты о сравнительных достоинствах итальянской и французской музыки на страницах парижских газет, действительно, открылись и с успехом велись в течение всего лета.
Тяжкий полицейский гнет давал в стране постоянную пищу для республиканской оппозиции, которая, на ряду с роялистской оппозицией, была для Наполеона тем более опасной, что пускала глубокие корни и в армии. Из среды офицерства по преимуществу вербовала своих членов тайная республиканская организация «филадельфов»[15]. Из рядов армии вышел и самый опасный из республиканских заговорщиков против Наполеона, генерал Малэ.
2. Французское общество и события русской войны.
Официальная жизнь Франции с отъездом Наполеона ни в чем не изменилась. Части государственной машины работали правильно, и даже руководить ею долгое время продолжала рука императора: он и за границей продолжал получать подробные отчеты министров и входить в малейшие детали управления.
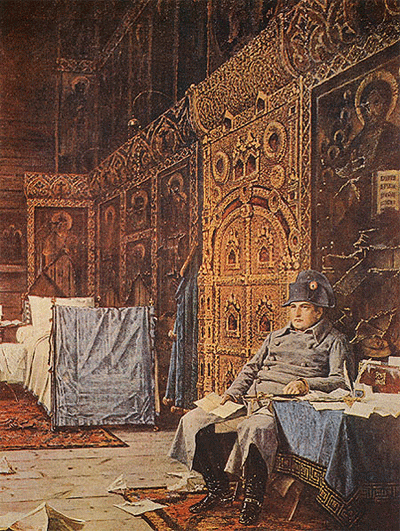
На этапе. «Дурные вести из Франции».
(Верещагина).
|
Официальным благополучием продолжала дышать и пресса. Но как ни старалось правительство занять внимание общества «маленькими войнами» на страницах газет, оно с самого начала было приковано к «большой войне», непопулярность которой немедленно сказалась в той готовности, с которой французское общество ловило все компрометирующие военное начальство слухи и критиковало официальные сообщения с театра войны.

Солдаты великой армии на обратном пути.
(Л.И. Потт).
|
Официальные «бюллетени великой армии» составляли в сущности все, что жители Франции могли узнать о войне из газет, если не считать запоздалых и тенденциозно подобранных перепечаток из иностранных газет и столь же тенденциозных и более чем бессодержательных случайных известий. О характере же этих официальных бюллетеней можно судить по тому, что сами чиновники, обязанные публиковать их, приходили нередко в смущение от их содержания. «Я помню, в какой гнев пришел однажды Лавалет (директор почт), — говорит Паскьэ[16], — когда мы прочли с ним в одном из бюллетеней, что казаки дезертируют из армии массами.
«Неужели они думают, — воскликнул он, — что мы можем заставить кого-нибудь поверить этим басням? Казаки бегут из армии! Да ведь на войне-то, им только и пожить! Здесь они не теряют ничего и выигрывают все!»..
Немудрено, что и общественное мнение с большей охотой верило частным известиям и слухам, чем тому, что писалось о войне в газетах. Скептическое отношение к официальным бюллетеням сложилось с самого ее начала. Известие о первых успехах великой армии в России никого не удовлетворяло; с одной стороны, впечатление от этих успехов ослаблялось неблагоприятными вестями из Испании, а с другой стороны, «даже самые легковерные из парижан были, по словам Савари[17], убеждены, что дело шло пока об отдельных стычках, не имевших никакого значения для исхода войны. Что же касается шансов на ее благоприятный исход, то они казались парижанам очень слабыми: слишком уж поражала их огромность лежавшего перед армией пути... Ждали решительной битвы, и в сообщениях о мелких сражениях видели только стремление успокоить избалованное победами общественное мнение»»... ...«После взятия Смоленска, — говорит Савари, — все желали одного — заключения перемирия и водворения армии на зимние квартиры. Толковали о том, что солдаты слишком долго находятся в походе, что, вероятно, одежда и обувь на них совершенно растрепались и запасы провизии скудны. Из сообщения о прибытии в армию больших запасов муки и о закупке всяческих продуктов заключали, что именно в этих продуктах она и терпела нужду... Предавались и другим, не менее прискорбным, размышлениям, например, что до сих пор не удалось настичь русскую армию, что раз она ускользнула под Смоленском, то ничего хорошего не приходится ждать и от дальнейшего движения вперед... Насыщали себя этими идеями и вздыхали о перемирии, как шаге к окончательному заключению мира»[18]... Такое настроение не чуждо было даже представителям высшей власти.
Паскьэ передает разговор с морским министром Декрэ вскоре после получения известия о взятии Смоленска. «Движение императора к Москве — безумство, — воскликнул министр, — он думает, что всякие затруднения разрешатся приказом о новых наборах. Правда, сенат предоставил в его распоряжение еще 140.000 рекрутов, что составляет в общем 440.000 человек в один год, но неужели вы думаете, что веревка, натянутая так туго, может выдержать долго?... Нет, — говорю вам, — это человек погибший!»[19] Даже известие о Бородинском сражении, изображенном в бюллетене, как решительное поражение русской армии, не изменило, по словам Савари, тревожного настроения парижан. «Радость победы, — говорит он, — омрачалась мыслью о той страшной дали, в которой она одержана. К событию отнеслись с большим интересом, но это, кажется, и все. На площади Инвалидов пропалили 100 раз из пушек; во всех церквах пропели Te Deum, но все это, несмотря на общее, казалось бы, чувство удовлетворения, не рассеяло владевшего обществом беспокойства»[20].
Весть о вступлении французов в Москву, пришедшая через несколько дней после известия о Бородинском сражении, подняла было надежды оптимистов; думали, что армия найдет в Москве обилие запасов и желанный отдых; верили слухам, будто бы русская армия отступила к Твери, что Мюрат двинулся во главе всей кавалерии на Петербург. Но иллюзия продолжалась недолго: скоро узнали и о пожаре Москвы, и об истинном настроении русской армии.

«Колесницы фараона и войско его поразил Господь».
(Карт. Кампфа).
|
Теперь молчать было уже невозможно; нельзя было газетными дискуссиями о музыке отвлечь внимание общества от тревожных мыслей и нежелательных для правительства суждений. И вот повсюду громко заговорили вдруг о войне и о новых победах великой армии. Журналисты, поэты, церковные ораторы присоединили свои голоса к гулу победных пушек и колоколов, чтобы общими усилиями заглушить тревогу в сердцах французских подданных и укрепить в них пошатнувшуюся веру в вождя государства и его счастливую звезду. Если в излияниях этих и были крупицы искреннего чувства, они безнадежно тонули в море официальной патриотической лжи.
Для автора прокламации, приложенной к объявлению о новом Te Deum в парижских церквах, меч Наполеона не обыкновенный меч завоевателя: это меч мстителя за всю цивилизованную Европу, потрясенную когда-то набегами диких варваров севера с «мечом Божиим» Аттиллой во главе. Много веков цивилизованный мир оставался не отомщенным. «Но вот явился, наконец, посланник небес, наш августейший монарх и призвал север к ответу за пролитые им некогда слезы и кровь. Тогда жестокие воители хотели вернуть в первобытное варварство человеческий род; теперь их полуварварские потомки уже в собственной стране возобновляют пожары и грабежи. Можно представить, что, в случае победы, они сделали бы в чужой! Нет, поистине, весь мир заинтересован в наших победах!»[21] Так писал архиепископ парижский Мори (Maury), — тот самый Мори, который в день назначения своего на архиепископскую кафедру, состоявшегося одновременно с назначением на пост префекта полиции Паскьэ, несколько раз повторял, обращаясь к последнему: «Император разрешил теперь две главнейшие нужды столицы — снабдил ее хорошей полицией и хорошим духовенством; теперь он может быть спокоен за общественный порядок; архиепископ и префект полиции это почти ведь одно и то же»[22].
За правящим духовенством выступили поэты. После известия о взятии Москвы появились десятки патриотических од, воспевавших грандиозность этого события и ни с чем несравнимое величие его героя. «Я счастлив, — поет один из поэтов, — если звуки моей лиры будут угодны его слуху, если он милостиво улыбнется на мои творения». Поэта умиляет зрелище Франции, которая идет к зениту своей блестящей славы, послушная законам и руководимая мудрым монархом, благоразумие которого всегда уравновешивает чашки судьбы и ведет государство ко благу.
«Благородная родина, Франция, — восклицает другой поэт, — сердце ликует во мне, видя твое величие. В блеске твоей славы засну я теперь моим последним сном. Нет предмета, более прекрасного и более достойного моих вдохновений. Я современник величайшего из героев. Полон чудес его несравненный век. Его имя отражается каждым эхом. Солнце, с твоих воздушных высот ты видишь, как идет он вперед. Окинь могучим оком прошлое, его самые светлые дни и скажи, есть ли равный ему в целом царстве времени».
Статьи журналистов держались в общем ближе к земле, чем вдохновения поэтов и духовных особ: им приходилось действовать не столько на чувства, сколько на здравый смысл. Однако соответствующий моменту патриотический пафос был не чужд и газетным статьям, посвященным вступлению великой армии в Москву:
«В момент, когда гром наших побед прокатился эхом по всей Европе, когда императорский орел взвился над Кремлем, древней резиденцией царей, мы не колеблясь направляем внимание читателей на высокие мысли, естественно внушаемые этими грандиозными событиями». Так начинается одна из этих статей. «В событиях этих, — продолжает автор, — во всю ширь развернулась изумительная сила правительства, сумевшего, при совершенном спокойствии и мире внутри страны, вести войну на двух концах Европы. Какой француз, достойный этого имени, не почувствует теперь, как ширится его мысль и возвышается дух»[23].
«Как ни привыкли мы к грандиозным замыслам и кампаниям императора французов, но вступление этого монарха в Москву кажется нам чем-то выходящим за пределы всего, что давала нам доселе его полная чудес история[24]... Расстояние Парижа от Москвы, равное приблизительно расстоянию столицы Александра Великого от столицы персидской монархии, природа и климат страны, недоступной, казалось, для европейских армий, воспоминание о великом полководце, в подобном же предприятии потерпевшем неудачу, соседство азиатских наций, которые уже увидели в своих рядах беглецов Бородинской битвы, — все это придает наступательному движению великой армии характер какого-то чуда, напоминающего знаменитейшие походы древности»... Россия, по мнению автора, завоеванная страна: обладание ею обеспечено за французами и отвращением к военной службе русских крестьян, и безвыходным положением русской армии: «Она идет по дороге ссылаемых в Сибирь, — острил по ее адресу автор. — Должно быть, русские вельможи и генералы захотели поохотиться на белых медведей и оленей, попить у татар кобыльего молока, поесть с камчадалами собачьего мяса!..»
«Однако, — с грустью добавляет он, — находятся поверхностные люди, которые лишь в слабой степени отдают себе отчет в огромности потерь, понесенных Россией и в почти отчаянном положении этой империи... Они воображают, что русское правительство, удаляясь в Казань, а оттуда, быть может, в Тобольск, сможет выиграть время, собраться с силами и вернуть потерянное. Это было бы справедливо, если бы Россия походила на Францию, которая на всем своем пространстве одинаково густо населена и одинаково плодородна». В действительности, доказывает автор, Россия представляет собой совершенно другую картину; собственно русскими могут считаться в ней лишь 14 центральных губерний, остальные или совсем почти не населены, как, напр., прикаспийские или сибирские степи, или же населены враждебными России племенами, ждущими первого случая, чтобы свергнуть с себя русское иго: «Татары, донские казаки, грузины и проч. немедленно восстанут, как только услышат, что «царь царей» бежит на Волгу из своей, объятой пламенем, столицы»... (Journal de l'Empire, 1812, 7 окт.).
«Частные письма» из Москвы, отрывки из сочинений о России, выдержки из русских газет, документы в роде царских манифестов или прокламаций Ростопчина — весь этот материал, после известия о взятии Москвы, наполнивший вдруг парижские газеты, должен был говорить о том же, о чем говорили статьи журналистов — о варварстве русских, о их полной растерянности, о безнадежности их положения и о близости мира: взятие Москвы решало судьбу всей войны. Что, однако, идея эта усваивалась парижанами не без труда, и что «поверхностных людей» среди них находилось немало, видно из того, какая масса ораторского, публицистического и поэтического вдохновения была нужна для внедрения ее в их умы.
3. Попытка государственного переворота в Париже.
После известия о пожаре Москвы сведения из великой армии приходили в Париж все реже и реже. Еще дольше не получало правительство вестей от самого императора. На почве полной неизвестности о дальнейшем ходе военных действий легко рождались и находили веру разные тревожные слухи; настроение общества было до крайности напряженное. Сильное беспокойство царило в частности среди парижских купцов: на нескольких собраниях они уже довольно открыто выразили правительству свое недоверие[25].
Противникам императорского режима трудно было найти более благоприятный момент для попытки активного выступления, и они, действительно, воспользовались им.

«Кукольная комедия или проходящие через Франкфурт пленные казаки».
(Теребенев «С. От.», 1813 г., №18).
|
В самый разгар патриотического ликования французской прессы по поводу вступления Наполеона в Москву, в одной из парижских государственных тюрем вырабатывался против него план государственного переворота. Во главе заговорщиков стоял старинный, личный и политический враг Наполеона генерал Малэ (Malet). Он был арестован еще в 1808 г. как участник раскрытого полицией республиканского заговора, и с тех пор не выходил из тюрьмы. Единственной льготой, которой ему удалось, в конце-концов, добиться, был перевод в лечебницу доктора Дюбюиссона, где политические заключенные содержались на более легком режиме. Здесь Малэ познакомился с видными вождями роялистов, совместно с которыми и выработал свой план. Для осуществления его была выбрана ночь на 23 октября. (Как раз та ночь, когда французский гарнизон под командой Мортье покидал московский Кремль). Около 11 часов вечера Малэ бежал из лечебницы вместе с агентом роялистов аббатом Лафоном.
На следующий день рано утром командир одного из батальонов (или «когорт» как они назывались) национальной гвардии полковник Сульэ был разбужен незнакомыми ему людьми, одетыми в форму дивизионного генерала, его адъютанта и комиссара полиции. Они принесли ему поразительные новости: император скончался в Москве; сенат назначил временное правительство для выработки конституции и немедленного заключения мира с Испанией и Россией; командование парижским гарнизоном поручено генералу Малэ. Приказ его по вверенным ему войскам вместе с копией постановления сената и другими документами генерал, назвавший себя Ламоттом, тут же вручил изумленному полковнику. Неожиданность и необычайность известий не заглушила, однако, в старом офицере привычки беспрекословно повиноваться своему начальству: вид генеральского мундира и письменного приказа командующего гарнизоном было достаточно, чтобы уничтожить в нем все зародыши сомнения, и он немедленно исполнил все распоряжения генерала.
Батальон был выстроен во дворе казарм, и солдатам прочли воззвание генерала Малэ, его приказ по войскам гарнизона и текст постановления сената.

Гюлэн.
(Музей 1812 г.).
|
«Граждане, — говорилось в воззвании, — Бонапарта нет: тиран пал под ударами мстителей за человечество... В этот навеки памятный день соберем всю силу нашего духа и прекратим позор ненавистного рабства, как этого требуют от нас и интересы нации и наша честь! Опрокинем режим угнетения и вернемся к свободе, чтобы никогда уже не выпустить ее из наших рук! Сметем того, кто посягает на волю народа, окажем защиту покорным ей!.. Будем дружно работать над общественным возрождением Франции, проникнемся этой великой задачей! Достижением ее мы заслужим признательность современников и удивление потомства и смоем с нации позор совершенных тираном злодеяний. Если нужно, умрем за отечество и свободу! Сольемся навсегда в общем крике: «да здравствует нация!..»[26] В приказе по войскам обещалась щедрая награда всем офицерам и солдатам, которые «сумеют показать себя добрыми гражданами»...
Национальная гвардия, организованная за несколько месяцев перед тем, состояла из молодых солдат, большей частью насильно оторванных от семьи и враждебно настроенных к императорскому правительству. Смерть императора, по-видимому, немало их не огорчила, и решение сената передать верховную власть в руки временного правительства, минуя наследника престола и его мать, показалось вполне естественным.
Следуя полученному приказу, Сульэ отправился с частью своего батальона к зданию городской думы, где к 9 часам утра, как сообщил ему «генерал Ламотт», должно было собраться временное правительство.
Когда губернатор парижского округа (префект Сены) Фото, вызванный курьером, явился в городскую думу, она была уже занята солдатами. Сопротивляться было бесполезно, если бы он этого и хотел, и потому, прочтя показанные ему полковником документы, Фото распорядился отвести для временного правительства подходящее помещение. Быть может, он сделал это даже не без удовольствия, так как в списке этого правительства значилось и его собственное имя.
Назвавший себя генералом Ламоттом был в действительности сам Малэ, а одетым в форму адъютанта и комиссара полиции — его ближайшие сообщники — капрал Рамо и бывший студент Бутрэ. Забравши себе две роты солдат, Малэ отправился прежде всего к государственной тюрьме, где находились в заключении два враждебные Наполеону генерала Лагори (со времени заговора генерала Моро) и Гидаль, арестованный в конце 1811 года по делу о рабочих беспорядках в городе Гросе (на юге Франции). Врученный тюремному начальству приказ об освобождении обоих генералов был немедленно исполнен, и задача Малэ этим сразу облегчилась. Своим новым сотрудникам он поручил устранение наиболее опасных членов правительства и захват полицейской власти, а сам отправился на Вандомскую площадь, чтобы овладеть командиром парижского гарнизона и его главным штабом.

Кларк.
(Музей 1812 г.).
|
Гидаль и Лагори удачно справились с частью своей задачи. Министр полиции Савари и префект Паскьэ были арестованы в постели и под командой Гидаля отведены в государственную тюрьму; военный министр бежал, оставивши министерство в руках Гидаля; Лагори принял на себя обязанности министра полиции и, в качестве такового, принялся за рассылку приказов провинциальным префектам. Офицеры и солдаты, охранявшие министерства и префектуру полиции, так же легко, как и батальон полковника Сульэ, поверили известию о смерти императора и признали законным новое правительство. По словам одного полицейского агента солдаты муниципальной гвардии (Garde de Paris), охранявшие префектуру, едва узнавши о смерти императора, начали уже «поносить его память»[27]. Но на Вандомской площади Малэ ждала неудача. Командующий гарнизоном генерал Гюллэн и офицеры главного штаба отказались подчиниться Малэ и признать подлинность предъявленного им сенатского указа. С Гюлленом Малэ расправился при помощи пистолета, но в главном штабе офицеры успели схватить его, прежде чем он спустил в них курок. Вместе с ним был схвачен и его «адъютант» Рамо: солдаты, дожидавшиеся у входа, не слышали шума и не успели явиться на помощь.

Отъезд Наполеона из армии в 1812 г.
(В. Шельминский).
|
На площади между тем среди выстраивавшихся там по приказу нового начальства отрядов царило оживление не похожее на скорбь об умершем императоре. Один из важных сановников хотел пройти в квартиру Гюллэна, но был остановлен часовыми. «Я граф Реаль», сказал он. «Здесь нет больше графов», ответил ему караульный офицер. (См. Hamel, стр. 221).
Офицеры штаба вывели связанного Малэ и Рамо на балкон, выходящий на площадь, и прокричали солдатам, что перед ними обманщики и что император жив. На площади произошло замешательство, а потом вдруг раздались крики: «Да здравствует император!» Этим предрешалась судьба предприятия, но Малэ не считал еще его проигранным: он надеялся на помощь своих сообщников, в руках которых находилась городская дума, два министерства, префектура и значительная часть парижского гарнизона. Гидаль и Лагори не оказались, однако, на высоте положения: они от первой неудачи потеряли присутствие духа и без сопротивления сдались явившимся их арестовать офицерам. Савари и Паскьэ были немедленно освобождены; солдат увели в казармы. Некоторое упорство проявил лишь отряд, охранявший префектуру: Паскьэ, явившийся туда из тюрьмы, был встречен солдатами ружьями на перевес, и должен был спасаться от них в соседней аптеке. Но вскоре удалился и этот отряд, и жизнь города окончательно приняла свой нормальный вид. Проснувшийся Париж узнал о событиях задним числом.

Малэ.
(Музей 1812 г.).
|
Если не считать участия случайных прохожих в задержании Савари, когда по дороге в тюрьму он пытался бежать от конвоя, да толпы любопытных, собравшейся утром у городской думы, Париж ничем не успел проявить себя во время самых событий; с тем большей энергией он проявил себя после них, высмеявши правительство в массе злых эпиграмм и сатир.
«Публика охотно делает полицию предметом своих насмешек», замечает по этому поводу Савари[28]. Некоторые высокопоставленные особы, и в том числе сама императрица, получили, наполненные ругательствами по адресу Наполеона, анонимные письма. Письмо, полученное министром полиции, любопытно своими намеками на злободневные экономические вопросы: «Хлеб в 10 су, кофе и сахар в 20, — писалось там, — вот во что обошлось бы нам падение этого чудовища, монополизатора, губителя и величайшего преступника, какого изрыгал только ад»[29].
Событие 23 октября сильно испугало правительство. Париж, который по картинному выражению Савари, думал, что под ним гранитная скала, вдруг почувствовал себя на вулкане[30]. По его авторитетному в данном случае мнению лишь случайные причины помешали Малэ добиться серьезного успеха. «В его власти могли оказаться казначейство и почта. Получая эстафеты из армии, он знал бы о печальном положении войны, и ничто не помешало бы ему арестовать императора, если бы он прибыл один, или отправился ему навстречу, если бы он возвращался с охраной. Опасность, угрожавшая общественному спокойствию была велика: волей-неволей нам пришлось убедиться, что далеко не во всем мы были сильны. Что особенно поразило всех, так это та легкость, с которой армия поверила в смерть императора, и то, что никто не вспомнил при этом о его сыне»[31].
В кратком официальном сообщении о покушении генерала Малэ, помещенном на другой день в газетах, правительство постаралось скрыть от населения его истинный смысл, представив его в виде «мальчишеской выходки» (equipee) трех бывших генералов, которые обманули нескольких солдат национальной гвардии и учинили при помощи их насилие против министра полиции, префекта и коменданта Вандомской площади. В добавление к этому сообщалось лишь, что «курс государственных бумаг не подвергся ни малейшему колебанию» и что «население Парижа громкими криками в честь императора выражало свое негодование против бунтовщиков, когда их вели в тюрьму и на суд». Хотя правительство и уверяло при этом, что «весь заговор родился в голове Малэ и его двух сообщников», но это не помешало ему произвести среди парижан массовые аресты: по утверждению некоторых авторов общее число арестованных и подвергшихся преследованию по делу Малэ достигало полуторы тысячи.
Если авторы правительственного сообщения старались убедить общество, что предприятие 23 октября было делом всего лишь трех лиц, то совершенно противоположного мнения держался на него сам Малэ. Когда председатель спросил его на суде, кто был его сообщником, он отвечал: «Вся Франция, и вы в том числе, если бы я имел успех». Это было преувеличение, но все же ответ Малэ был гораздо ближе к истине, чем противоположное утверждение правительства; не даром большинство современников, писавших о покушении Малэ, вынесли впечатление, что неуспех его зависел, главным образом, от чисто случайных причин. В разговоре с секретарем министерства полиции Сольньэ, после ареста, Малэ, по словам этого последнего, следующим образом представлял шансы своего предприятия: «На моей стороне было уже насколько полков. К ним присоединились бы и другие, тяготившиеся наполеоновским режимом и желавшие новых порядков. Чтобы положить конец сопротивлению и гарантировать предприятию полный успех, я приказал бы расстрелять Наполеона в Майнце, победитель или побежденный, я не сомневался, что он поспешит приехать, как только узнает о заговоре. Я решил, кроме того, сконцентрировать в Талоне на Марне 50.000 человек, чтобы защитить с этой стороны Париж. По миновании кризиса я отпустил бы рекрутов домой, согласно заранее принятому мною обязательству. Я с тем большей добросовестностью исполнил бы это обещание, что оно было главной причиной, побуждавшей полки следовать за мной»[32].

Дюронель.
(Музей 1812 г.).
|
Суд над Малэ и его товарищами был скорый и решительный: на рассвете 29 октября смертный приговор над 15 осужденными был приведен уже в исполнение. Парижане узнали об этом, как и о самом суде, лишь на следующей день, а еще через день газеты напечатали и текст приговора. 14-летний лицеист Лавин написал в честь Малэ следующую латинскую эпитафию, за которую был немедленно исключен из лицея:
|
«Hic jacet infelix miserando carmine Malet
Flendus, cui, si non haesit fortuna, tyranni
Victima si periit, magnis tamen excidit ausis».
|
(Здесь лежит несчастный Малэ. Оплачем его скорбною песней. Судьба была против него, и погиб он жертвой тирана. Но великими были дерзанья его...)
Малэ не ошибся, утверждая, что Наполеон немедленно вернется в Париж, как только узнает о его покушении. Получивши 7 ноября, около Дорогобужа, эстафету военного министра, он немедленно решил ехать во Францию и при первой возможности покинул армию. В Париже первое, о чем он заговорил с министрами, было дело Малэ. Чтобы убедить императора в прочности трона, правительству понадобилось чуть не всех подданных приводить к новой присяге: высшие учреждения империи во главе с Законодательным корпусом и сенатом в полном составе должны были явиться к нему для выражения своего негодования против «ужасного покушения» (horrible attentat) Малэ, а вслед за ним прислали уверение в верноподданнических чувствах и провинциальные города, а также полки парижского гарнизона[33].
3. Последние бюллетени из России и возвращение Наполеона.
После событий 23 октября прошла еще неделя, пока пришли, наконец, вести из армии. Утешительного было в них мало. Напротив, 24 бюллетень великой армии, появившийся в газетах 2 ноября, определенным образом намекал на предстоящее отступление ее из Москвы «к более удобным зимним квартирам»: выпал уже снег, недели через три должны наступить большие морозы; раненые эвакуированы уже по направлению к Смоленску. Несмотря на напечатанное в газетах «частное письмо» офицера генерального штаба, сообщавшее о прекрасном состоянии армии, о легкости, с которой французские солдаты приспособляются к новому климату и о том, что «ни одна страна в мире не знает стольких приспособлений против холода, как Россия»[34], весть об оставлении Москвы после начала зимы произвела на общество удручающее впечатление. «Еще не предвидели ясно всех грядущих несчастий, — пишет Савари, — но уже поддавались давлению оппозиции: духовенство осторожно, но непрестанно подкапывалось под верноподданнические чувства деревенского населения»[35]. Интерес к ходу событий проявлялся огромный: «Во всем Париже не было дома, где не ловили бы с жадностью всякую весть о великой армии. У всех были карты России, и все булавками отмечали на них упоминавшиеся в бюллетенях пункты. Со страхом думали об огромности расстояния, которое предстояло пройти солдатам до зимних квартир среди начавшегося уже холодного сезона»...[36]

«Оправдание Наполеона перед народом
по прибытии его в Париж».
(Теребенев).
|
И вот опять, в противовес пессимистическому настроению общества заработали казенные перья, и газеты запестрили патриотическими статьями. «Предстоящее движение армии не должно никого удивлять, — писала 10 ноября «Газета Империи»: — ясно, что благодаря пожару Москва не могла стать для армии удобным местом зимовки, а в виду предстоящих холодов отыскание зимних квартир является для нее главнейшей задачей. Подобными же соображениями император руководился в 1807 г., покидая на зиму восточную Пруссию, чтобы летом продиктовать ей мир в Фридланде и Тильзите. Каково бы ни было дальнейшее движение армии, будем уверены, что как в разгар военных действий, так и во время зимнего отдыха, наши непобедимые легионы сумеют внушить неприятельским ордам уважение к себе. Воздадим хвалу этой предусмотрительности: она умеет и ускорять победоносную кампанию, и останавливать ее, когда этого требует благоразумие. Подумаем с радостью о наших друзьях, сыновьях и братьях, которые вкусят некоторое время отдых под сенью родных знамен... Сказать, что император оставил Москву, значит только сказать, что этот отец солдат всегда находится там, где его присутствие требует важность операций. На его глазах одержана победа, его же око будет охранять безопасность победоносной армии»...[37]. Следующая статья газеты (17 ноября) старается истолковать движение армии к Смоленску как начало наступления на Петербург: это скорее фланговое, чем отступательное движение. «Мир не может быть подписан иначе, как в Петербурге: значит концентрация великой армии в окрестностях Смоленска и Витебска необходима, как предварительное условие дальнейших операций». С каждым новым бюллетенем положение журналистов становилось, однако, все более затруднительным; о движении на Петербург говорить уже не приходилось: нужно было как-нибудь объяснить, ставшее уже несомненным, отступление армии из России.
Их слишком уж наивное пустословие никого обмануть, конечно, не могло, и лишь подчеркивало полное отсутствие у казенных оптимистов сколько-нибудь серьезных аргументов в пользу их оптимизма. Едва ли могли заглушить беспокойство народа и подоспевшие 6 декабря коронационные торжества с их хвалебными речами, статьями и одами в честь императора и великой армии. Бюллетени стали приходить еще реже: между 27 и 28 бюллетенем протекло 12 дней, между 28 и 29 почти три недели, да и содержание их было слишком уж однообразно и кратко: движение к зимним квартирам продолжается, здоровье императора превосходно, о русской армии ничего не слышно. 13 декабря в «письме из Вильны» упоминалось, правда «о некоторой усталости лошадей в следствие плохих дорог», но и это неприятное известие сейчас же вознаграждалось сообщением, что «потери великой армии ничто в сравнении с потерями русских», и что, «соединившись с корпусом, оставленным в Польше, она количественно стала сильнее, чем при вступлении в Россию»[38].

«Усердная поставка рекрут от французского народа».
(Теребенев).
|
Жестокая истина, о которой давно уже догадывались, только 16 декабря открылась парижанам во всей наготе: в Moniteur'е[39] появился последний, 29 бюллетень, содержание которого одним толчком разрушило все выстроенные предыдущими сообщениями карточные домики. «С 7 ноября, — писалось там, — начались морозы; в насколько дней погибли десятки тысяч лошадей; пришлось уничтожить значительную часть орудий. Армия, столь блестящая еще 6 ноября, 14 имела иной уже вид, почти без кавалерии, без орудий, без транспорта. За отсутствием артиллерии пришлось избегать сражений и все время не останавливаясь идти»... «Сказать, что армия нуждается в восстановлении дисциплины, в заново организованных кадрах кавалерии и артиллерии и в основательном отдыхе, говорилось в конце бюллетеня, значит лишь сделать вывод из всего вышеизложенного».
«Раз отдавшись мрачным мыслям (des calculs noirs) воображение парижан не знало теперь границ», рассказывает Савари о впечатлении, произведенном на них 29 бюллетенем: «Армия, столько лет предмет удивления современников, наполнившая историю своими славными подвигами, рисовалась ему сплошным огромным караваном полузамерзших, истощенных людей»[40]. Увы, созданная воображением парижан картина была очень близка к действительности!..
В тот самый день, как парижские газеты напечатали жестокую правду (18 декабря), вернулся в Париж и сам император. Его не ждали в Тюльерийском дворце. Он приехал ночью, без свиты, в дорожном платье. Стража долго не открывала двери, так как не сразу его узнала. Газеты лишь 20 декабря кратко сообщили о приезде Наполеона.
Страна холодно встретила на этот раз своего монарха. Сенат и Законодательный корпус явились, правда, еще раз выразить ему свою верноподданническую преданность, но «никогда еще, — по выражению Паскьэ, — слова их не отвечали так мало действительным чувствам».
Ив. Херасков.
[1] Sovary. (Due de Rovigo). Memoires, т. V, p. 227.
[2] Pasquier. Histoire de mon temps, т. I, p. 525.
[3] Ср. Lavisse et Rambaud, т. IX, 412. Histoire Socialiste, VI, 522 и след.
[4] Histoire Socialiste, VI, 531.
[5] См. Lavаlеу. Napoleon et la disette de 1812.
[6] Art. Guillois. Napoleon, т. II, р. 191.
[7] Hist. de mon temps, I, 509.
[8] Гарнизэры — экзекуционные сыщики, которых непокорные землевладельцы должны были содержать у себя на свой счет, выдавать им, кроме того, суточные деньги.
[9] Письмо префекта Кальвадоса к графу Дюронелю. См. Lavaley. Op. cit.
[10] Hist. de mon temps, I, 500.
[11] См. Delidour. Histoire des rapports de l'eglise et de l'etat en France.
[12] См. Pierre. Histoire des assemblees-politiques en France, 324.
[13] См. Journal de l'Empire, 1812, 28 июня и др.
[14] Histoire Socialiste, VI, 471,
[15] См. Nadiеr. Histoire des societes secretes dans l'armee.
[16] Hist. de mon temps, II, 2.
[17] Memoires, V, 290.
[18] Memoires, V, 290.
[19] Hist. de mon temps, II, 2.
[20] Memoires, V, 301.
[21] Прокламация архиепископа Мори. См. Journal de l'Empire, 1812, 6 октября.
[22] Pasquier. Hist. de mon temps, I, 415.
[23] Journal de l'Empire, 1812, 6 октября. Перепечатки из Journal de France.
[24] Ibid., 7 октября.
[25] См. Saulniеr. Eclaircissements historiques sur la conspiration du general Malet, стр. 14-15.
[26] Ernest Hamel. Histoire des deux conspirations du general Malet.
[27] Доклад агента Veyrat префекту Паскьэ. См. Paschal Grousset. La conspiration du general Malet d'apres les documents authentiques.
[28] Memoires, VI, 14.
[29] Hamel. Op. cit, 285.
[30] Memoires, VI, 43.
[31] VI, 39-40.
[32] Saulniеr. Eclaircissements historiques, стр. 42.
[33] Воndоis. Napoleon et la societe de son temps, стр. 334.
[34] См. Journal de l'Empire, 1812, 4 ноября.
[35] V, 304.
[36] Ibid., VI, 42.
[37] Journal de l'Empire, 1812, 10 ноября.
[38] Journal de l'Empire, 26 ноября.
[39] В других газетах 18 декабря.
[40] VI, 47.