|
|

«Отечественная война и Русское общество». Том V.
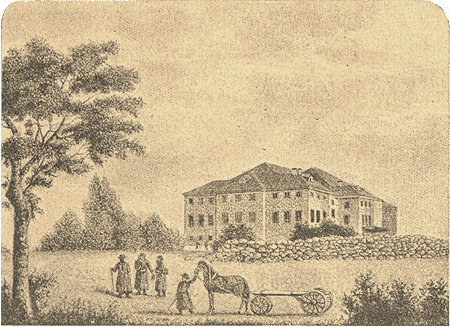
Театр Медокса в Москве.
|
VI. Театр и драма в Отечественную войну.
Н.Л. Бродского.
 то время, как на политическом горизонте сгущались грозовые тучи, в обществе нарастала тревога, повышалось настроение, — театр продолжал увеселять публику такими пьесами, как «очень игривая комедия» «Отплата», «Старый глупец и молодой хитрец», «Училище ревнивых» и т.п., ставил трагедии и оперы, сюжеты которых далеки были не только от современной жизни, но и вообще от русской жизни. «Амалия и Монроз», «Дафнис и Хлоя» слишком уносили от злобы дня, а быстро развертывавшиеся события так задевали за живое, что театр неизбежно должен был откликнуться на воинственный порыв, охвативший русское общество особенно с момента вторжения неприятеля в пределы страны. Могли ли захватить зрителя турецкие и испанские дивертисменты, когда он утром узнавал о взятии Смоленска? Не до «Сельской любви» и «Филаткиной свадьбы» было ему, когда стало известно о приближении врага к столице. Но репертуар почти исключительно состоял из подобных пьес. Пришлось прибегнуть к старым пьесам, к тем трагедиям, темы которых хотя немного напоминали современность, отдельные места которых все же ближе были чувству зрителя, чем тирады Иосифа Прекрасного и генерала Шлейсгейма (в пьесах того же названия). «Пожарский» драма Крюковского, «Дмитрий Донской» трагедия Озерова, написанные в 1807 году и тогда же завоевавшие успех, и были теми пьесами, которые с июля месяца стали особенно часто ставиться в московском и петербургском театрах. Чтобы понять настроение публики во время представления названных трагедий, надо помнить, с какой воинственной заряженностью приходила она на спектакли. По словам современника, «театр трещал от рукоплесканий, подобных грому», когда шел «Дмитрий Донской». С необычайным энтузиазмом встречались такие стихи, как:
«Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!»
|
или
«Иди к пославшему и возвести ему,
Что Богу русский князь покорен одному».
|
В глубоком молчании следили слушатели за словами актера:
«Первый сердца долг к тебе, Царю царей!
Все царства держатся десницею Твоей;
Прослав, и утверди, и возвеличь Россию;
Как прах земной, сотри врагов кичливу выю,
Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог:
«Языки, ведайте, велик российский Бог!»
|
С опущением же занавеса начиналось «фурорное хлопанье»[1]...
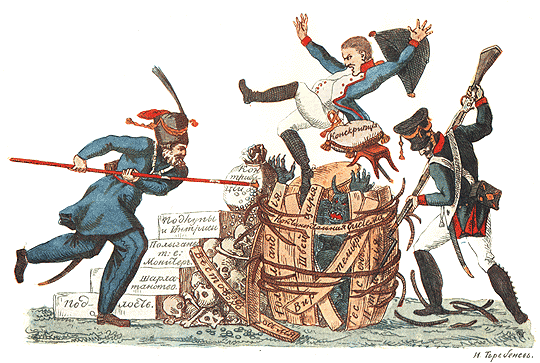
Разрушение всемирной монархии.
(Карикатура И.И. Теребенева).
|
Повышенное настроение, царившее в зале, перебрасывалось на сцену, за кулисы, электризовало артистов, те, в свою очередь, иногда зажигали толпу неожиданным военно-лирическим выпадом. Так было со знаменитой Семеновой, нечаянно узнавшей о победе русского оружия и с радости вбежавшей на сцену с криком: «Победа! Победа!»[2]. Все французское стало не в моде. Над галломанией смеялись: комедии Крылова «Урок дочкам» и «Модная лавка» сопровождались шумным смехом. Во французский театр перестали ездить, попытка актера Дальмаса поставить по-французски «Дмитрия Донского» успеха не имела. Французскую труппу распустили[3], хотя, надо сознаться, несколько запоздали: указ от 18 ноября об увольнении артистов был подписан тогда, когда зрители сами совсем бросили посещать театр. Однажды французский актер Дюран, выйдя для анонса и начав после трех обычных поклонов обычную фразу «Messieurs, demain nous aurons l'honneur de vous donner» и проч., увидал, что в зале всего сидит один зритель и то было, кажется, должностное лицо... Ему оставалось только переменить начало речи и сделать ударение: «Monsieur! demain nous aurons l'honneur»[4]. При таких условиях далее держать труппу было явно убыточно. Необходимо отметить, что театральным зрелищем интересовались в Петербурге неизмеримо сильнее, чем в Москве. Если в северной столице театр сотрясался от «фурорного хлопанья», москвичи отнеслись к театральной забаве значительно сдержанней. По словам историка, с объявлением войны с Наполеоном интерес к спектаклям в Москве понизился. С июня месяца театр был почти пустой, дворянство перестало его посещать, зрителями являлись только купцы[5]. Дирекция была поставлена в затруднение, видя, что с отъездом из Москвы дворянства и лучшего купечества невозможно будет продавать абонемент, начинавшийся с 10 сент. 1812 года. Кроме того, что отсутствие публики не доставляло театру «никаких доходов», нельзя было ставить «все оперы, трагедии и другие пьесы» с пением, с хоровыми номерами, так как «певчие, составляющие хор в театре и принадлежащие разным господам, отправляются по воле их из Москвы в другие места»[6]. Только один спектакль, по-видимому, удался на славу. Из Москвы кто-то даже послал корреспонденцию о нем в «Вестник Европы». Это было во вторник 30 июля, когда вместо обещанной комедии «Модная лавка» была представлена опера «Старинные святки». «В первой, — сообщает неизвестный корреспондент, — увидели бы ежедневно видимые на большом театре света бездельничества француженки мадам Каре и плутни француза мусье Трише, во второй неожиданно показали нам любезную старину Москвы белокаменной, житье-бытье славных бояр русских и святочные забавы целомудренных дочерей их и родственников. Сия перемена сделана по случаю полученных известий об одержанной над Наполеоном победе при Кобрине и Клястицах». Описывая спектакль, он отмечает, как «приятно было пролить радостные слезы в честь знаменитых защитников отечества». Было воспето величание царю Александру при полном хоре музыки с трубами и литаврами. Потом Сандунова запела своим дивным, полным глубокого чувства, голосом «славу».
«Слава храброму графу Витгенштейну,
Поразившему силы вражески! Слава!
Слава храброму генералу Тормасову,
Поборовшему супостата нашего! Слава!
Слава храброму генералу Кульневу,
Положившему живот свой за отечество! Слава!»
|
По требованию восхищенной публики актриса повторила величание при всеобщем плеске[7]. Но, вероятно, более подобных торжественных спектаклей в Москве не было. Население покидало город, да и артисты, конечно, не находили в себе достаточной силы греметь воодушевленными монологами при пустующей зрительной зале. Спектакли давно бы прекратились, если бы не приказание главнокомандующего графа Ростопчина играть во что бы то ни стало[8]. Последнее представление состоялось в пятницу 30 августа; шла драма в 4-х действиях Глинки «Наталья, боярская дочь», а после нее маскарад. В ту же ночь, когда армия уже начала отступать, дирекция московского театра бросилась к Ростопчину, чтобы тот дал 150 подвод увезти имущество, казну, артистов. Главнокомандующий отказал и посоветовал всем ехать во Владимир. Едва нашли 19 подвод, куда поместили театральную школу, «все богатые веши гардероба», поручив все оставшееся беречь «унтер-офицеру Мельникову с находящейся при нем инвалидной командой до той минуты, когда будет возможно»[9]. Артисты сами о себе должны были заботиться; некоторые из них одно время спасались в подмосковных имениях, напр., семья Мочалова и артистка Насова укрывались у кн. Долгорукова в Никольском. Автор «Капища моего сердца» рассказывает, как Насова, та самая, которой в бенефис бросали из партера на сцену кошельки с особенными подарками, теперь, уезжая из деревни из опасения быть пойманной неприятельскими партизанами, сама натягивала дугу у телеги и впрягала в нее лошадь. Семью Мочалова не пустили на какой-то завод под предлогом, что он актер, как бы Бог не покарал за прием актера... Трагику оставалось только вопиять против невежества нашего века[10]... В начале 1813 года кое-кто из актеров добрался до Петербурга (С. Мочалов, Злов, Сандунова и др.).

И.А. Дмитревский.
|
Резкую противоположность только что пережитому встретили они там. Театр в Петербурге в это время был тем местом, куда сходился поток национальных страстей, где манифестации и шумные проявления патриотических настроений достигали небывалых размеров. В то время, как московский (арбатский) театр давал 30 августа последнее представление, на петербургской сцене в тот же день шла новая пьеса нового драматурга — «Всеобщее ополчение» Висковатого. Забытая ныне пьеса, не сохранившаяся ни в одной московской библиотеке, в тот вечер встречена была таким успехом, какой вряд ли выпадал когда-либо на другую драму. Висковатов делил лавры вместе с Валберхом и Огюстом, тогда же поставившими балет «Любовь к отечеству» с хорами и пением, муз. Кавоса. В драме участвовал 75-летний Дмитревский, игравший роль Усердова; в балете пел арию Самойлов, представлявший русского генерала[11]. «Теперь невозможно ни описать, ни вообразить себе тогдашних порывов всеобщего восторга, — вспоминал об этом спектакле Р. Зотов; — был случай, что один зритель, видя, как на сцене все приносят в дар свое имущество, бросил на театр свой бумажник, вскричав: «Вот возьмите и мои последние 75 рублей»[12]. Другой современник также пишет, что «невозможно описать, до какого исступления доведена была публика при сих новых представлениях, особливо, когда осьмидесятилетний старец, сединами украшенный, бывший в свое время честью и красотою российской трагедии и двадесять лет уже оставивший свое поприще, — словом, почтенный Иван Афанасьевич Дмитревский представился взорам публики в виде престарелого инвалида, идущего пожертвовать отечеству драгоценнейшими вознаграждениями долговременной службы, трудов, пота и пролиянной крови — тремя медалями, некогда геройскую, а теперь уже бессильную, но все еще любовью к отечеству пламенеющую грудь его украшающими. — Зрители выходили, так сказать, из себя, и по окончании представления громкими восклицаниями и рукоплесканиями изъявляли чувство удовольствия и признательности, вызывали почтенного инвалида. Тронутый до глубины души старец благодарил публику прекрасной речью, изъявляющей, что он, будучи не в состоянии чем-либо иным при настоящем случае показать отечеству любовь свою, собрав слабые силы свои, явился на том самом месте, где прежде стяжал похвалу и одобрение своих соотчичей, для представления им благородного примера любви к отечеству. Громкие рукоплескания несколько раз прерывали его.
«Балет имел подобное действие: одно пошевеление знамени с надписью за отечество, доводило зрителей до исступления. От сильного сердечного чувствования все то плакали, то кричали, то рукоплескали. Сии представления даны были несколько раз сряду. Некоторые из зрителей, вышед из театра, на другой день бежали прямо в комитет записываться в ряды ополчения»...[13].

Н.С. Семенова.
|
Драма Висковатого была первым произведением, в котором нашла отражение современная эпоха, вернее, отдельный факт современной жизни. Написанная наспех, ad hoc, она попала в центр интересов публики и с энтузиазмом принималась зрителями, искавшими в пьесе не художественных красот, не точного снимка с жизни, а того гиперболизма, яркой окрашенности, приподнятости, что наполняло их самих.
События Отечественной войны, богатые драматизмом сами по себе, естественно, не могли сразу, быстро вызвать в жизни драматическое творчество: если лирик спешит за быстротекущей жизнью, нагоняет события, то эпическому писателю, драматургу необходимо, чтоб они отстоялись, отлились в нечто устойчивое; надо отойти от них на известное расстояние. Лишь требованием зрелищ можно объяснить появление нескольких оригинальных драматических произведений за период 1812—1815 годов. И как тогдашняя беллетристика характеризуется анекдотом, так и драма — небольшим водевилем, коротенькой пьеской — моментальным снимком с какого-нибудь случая, без долгого обдумывания характеров действующих лиц, без сложной интриги. В 1813 году в Петербурге были поставлены драмы Вронченко «Кириловцы», Свечинского «Освобождение Смоленска», Б. Федорова «Крестьянин офицер», в 1814 году водевиль кн. Шаховского «Казак-стихотворец»[14], его же опера-водевиль «Крестьяне или встреча незваных». Легче было удовлетворить запросы публики на специальные зрелища постановкой балетов, живых картин: какого-либо серьезного труда тут не было, а между тем сцены можно было скомпоновать так, что вчерашняя реляция о победе, изложенная в газетном № более или менее официально, на сцене, под звуки хора оркестра, в блестящей обстановке, действительно, оживала; приукрашенная, более льстила. По этим балетам, собственно, скорее всего напишешь историю театра того времени в его откликах на современные события. Эта пантомимная хронология начинается с указанного выше балета Вальберха и идет далее в таком порядке: «Русские в Германии», «Праздник в стане союзных армий», «Казак в Лондоне», «Торжество России или русские в Париже», «Возвращение героев», «Возвращение на родину». Под пляску и пение делалась на сцене история, бенгальским огнем освещалась она, далекая от той подлинной правды, что творилась на войне. Самойлов восхищал куплетами: «Ты возвратился, благодатный!»; «восторг публики и сочувствие к победителям доходили до исступления»[15], — вот лаконическая фраза историка театра, покрывающая настроения балетной публики того времени. «Исступление» это прорывалось особенно в те минуты, когда сцена говорила об изгнании врага, о победе. Жадно ловились соответственные тирады даже в старой трагедии Озерова; от таких стихов, как
«Спокойся, о княжна, победа совершенна!
Разбитый хан бежит, Россия свобождена!»
|
театр дрожал от рукоплесканий, все зрители вскакивали со своих мест, кричали «ура»! Махали шляпами, платками и в продолжение нескольких минут актер не мог продолжать своего монолога[16]. В новых только что написанных пьесах, напр. кн. Шаховского, нередко встречались также зажигательные места. Самойлов производил фурор, когда в опере «Крестьяне или встреча незваных», вспоминая о героях старины Пожарском, Минине, пел:
«Вы живы, мужи незабвенны!
Ваш дух живет в сердцах у нас;
Губители во прах сраженны,
В россиянах познали вас!
Вздремал ваш дух среди покоя,
Но грянул гром, и он воскрес!
Россию поддержал средь боя,
И славой к небесам вознес!»
|
Все факты, рисующие «исступление» театральной публики той эпохи, относятся к Петербургу. Москва, оправлявшаяся после разгрома, только в конце ноября 1813 года стала думать об увеселениях: первый спектакль дан был частной труппой 30 ноября в театре Позднякова. Императорский театр со всем инвентарем сгорел, многих артистов не досчитывалось; так, по донесению директора «находилось в отсутствии» 56 служащих театра. Лишь 30 августа 1814 года на Знаменке в доме Апраксина дирекция открыла москвичам двери театра; в 9 1/2 вечера начался маскарад, кроме того, шла опера «Старинные святки»[17]. И те балеты, оперы, драмы, которые недавно восхищали петербуржцев, вызывали восторги теперь у москвичей, горячо аплодировавших отдельным сценам в пьесах кн. Шаховского, напр., в его комедии «Урок дочкам» речам Пронского. Но стоило жизни войти в русло обыденности, стоило «грибоедовскому» обществу занять прежние позиции, и вся эта драматическо-балетная история потеряла всякий интерес: с 1816 года пьесы, написанные драматических дел мастерами с специальными намерениями, почти совсем перестали ставиться и возобновлялись разве с благотворительной целью в пользу инвалидов; по-прежнему стали увлекаться французской труппой, вернулся знаменитый Дидло и с ним ожил балет, опять в афишах замелькали «Стряпчий Щечила», «Калиф багдадский», появилась романтическая трагедия, «турецкие и пейзанские» дивертисменты. — Всматриваясь в пьесы, созданные эпохой Отечественной войны, вполне понимаешь это забвение публики: они были интересны, когда общество жило определенным настроением; схлынули восторги, ненависть, оружие перестало бряцать — и от драм Висковатого, Вронченко, Федорова не осталось ничего, кроме «возвышающего обмана», фраз, потерявших былое значение, сцен, о которых не хотелось вспоминать. Мы не будем говорить о таких произведениях, как драма Ватация «Хижина, спасенная казаком, и признательность», о которой сами современники говорили, что «вся завязка и развязка, этой драмы заключается в заглавия»[18]. Не будем раскрывать всего содержания оперы кн. Шаховского «Откупщик Бражкин или продажа села», так как для интересующей нас темы достаточно отметить песню семинариста Указкина:
«Аз бояхся зело:
Чтобы в наше село
Вражья сила
Не вступила
И нас в плен не повлече».
|

А.А. Шаховской.
(Грав. Галактионов).
|
Не будем анализировать его же оперы-водевиля «Казак-стихотворец», так как «действие происходит вскоре после Полтавской битвы», и пьеса пользовалась успехом из-за отдельных стихов шаблонного настроения. Не станем подробно разбирать так нашумевшую комедию того же князя Шаховского «Урок кокеткам», где отголоском военных событий звучали слова Пронского, что «в Лейпциг мы внесли спасение вселенной», что «наша храбрая, любезна молодежь, по всем делам слича свою страну с чужою, надежду подает, что воскресит собою дух русской гордости, приличный нам во всем», да где в монологе княжны описывалась Москва, опять зажившая своей жизнью и почти забывшая о только что пережитом: «там везде забавы лишь одне, веселья, праздники, и бед как не бывало... Хоть погубить врагов и дорого нам стало, да уж за то они узнали нас путем; не вздумают вперед»... Обратимся к его опере-водевилю «Крестьяне или встреча незваных», как к пьесе, исключительно относящейся к военной эпохе. Знакомство с этим произведением покажет тот предел, до которого дошла современная драматургия. Согласно господствовавшей сентиментальной манере водевиль насыщен любовными песенками; их то и дело распевают Варя, дочь старосты, и бобыль Василий, ее любовник, которым угрожает разлука, так как староста решил выдать дочь за богатого винокура Дребендю, труса, с ужасом поджидающего неприятеля. Деревни кругом горят, носятся разные слухи, но староста, выражающий настроение всего села, «поет на-голос: говорил-то мне сердечный друг»:
«...Нам покорству ль против злых людей,
У нас вера православная...
Не бывало и не быть тому,
|
Чтоб врагу мы покорилися:
Лучше лечь нам в мать сыру-землю,
Чем бесславить имя русское».
|
Для него ясно, что надо делать, если покажутся неприятели; он «верой и правдой должен служить Господу Богу, царю государю и властям от них постановленным». Он знает, что Русь православная не пропадет, раз есть «храбрые бояре и воеводы». «Ежели всякий будет стоять за свою церковь, за свою деревню, за своего помещика, то недолго кутить неприятелю», восклицает он, повторяя слова священника, и с криком: «За веру, за царя, за святую Русь», бросается с односельчанами в «дело». Вскоре — «супостатов как не бывало, все прибраны: одни на тот свет, другие в полон, иные в огне греются, другие в пруду купаются, а кой-какие по улицам валяются». Крестьяне нагрянули на разбредшихся по деревне французов, «кто топором, кто рогатиной, кто из ружья, а кто швырком»; тех же, кто пытались спастись по избам, всех сожгли... Старостиха Василиса организовала отряд из женщин и пошла на выручку своих: «Докажем басурманам, — говорила она, — каковы русские бабы». После того, как деревня покончила с неприятелем, — во все время, пока шла расправа с «незваными гостями», батюшка молился в церкви, — вдруг приезжает помещик, граф-ополченец; Василий было бросился обнимать своего барина, остановился в смущении, но граф сказал: «Обними меня: детям не стыдно обнимать отца!» Этот помещик рассказывает своим крестьянам, что «неприятели вытеснены и бегут опрометью», поет несколько арий и, устроив счастье Вари и Василия, уезжает «в погоню за неприятелем». Крестьяне во главе со старостой поют в честь барина, своего «избавителя» и «всех избавителей русской земли»:
«Позабудем грусть, невзгоду,
Воротилась радость к нам,
|
Слава русскому народу,
Слава войску и вождям».
|
На этом заканчивается двухактный водевиль кн. Шаховского. В основе его один из многочисленных случаев партизанской самообороны деревни того времени, но так раскрашенный князем-драматургом в духе «официальной народности», с таким привкусом грубого шовинизма, слащавой манерности в изображении отношений между помещиком и крестьянами, что признать пьесу, как за художественную правду, не представляется никакой возможности. Эта опера — типичный образец для драмы, созданной в эпоху Отечественной войны.

А.С. Грибоедов.
(Грав. Н. Уткин).
|
Все другие пьесы всецело примыкают к ней по тону, по настроению. Драма, напр., Федорова «Крестьянин-офицер или известие о прогнании французов из Москвы» рассказывает, как крестьянка Катя изнывает, поджидая милого Федю, и как он оплаканный всеми, уверенными в его смерти, неожиданно возвращается офицером. Свадьба благополучно завершает все тревоги «экономических крестьян», среди которых происходит действие. Пьеса пересыпана хвалами «русским солдатушкам-удальцам», возмущенными криками против «злодеев» и далее этой трафаретной схемы не идет. — Тщетно будем искать во всех этих пьесах какой-либо широкой картины современной Руси, да это и невыполнимо было для драматургов, узко, крайне односторонне понимавших свершавшиеся события. Ведь тот рисунок, по которому развертывались драматические сцены, так наивен, не сложен, что исследователю, желающему вскрыть подлинную правду жизни той эпохи, делать здесь ровно нечего: надо обращаться к другим источникам и прямо сказать, что драма эпохи Отечественной войны ни с литературной, ни с исторической стороны ценностей не представляет, что та мелодия, которая звучала в ней притягательно для современников, даже для них скоро показалась однообразной, монотонной и совсем потеряла эмоциональность для последующих поколений. Лишь Грибоедов пытался зачертить 1812 год, действительно, широко, крупными мазками, но мы не имеем права говорить о его плане, незавершенном наброске, поздно увидевшем свет и любопытном только для изучающего личность его автора. История русской драмы не впишет в свои страницы этого краткого, но глубокого по мысли отрывка, где Грибоедов хотел сказать о войне не правду лирного бряцанья, воинственного лиризма, а развернуть громадное полотно с начала до конца войны, с «народными чертами», Наполеоном, разгромленной Москвой, «сельской картиной», с «всеобщим ополчением без дворян, с трусостью служителей правительства», с «зимними сценами преследования неприятеля и ужасных смертей», геройскими подвигами крепостного крестьянина М*, постепенно разочаровывающегося в «поэзии отличий», отпускаемого восвояси «с отеческими наставлениями к покорности и послушанию» и кончающего самоубийством по возвращении «под палку господина», среди «прежних мерзостей».
Это единственный голос современного драматурга, пытавшегося взглянуть на события войны не по установившемуся шаблону, но он остался неслышным, прозвучал только для того, кто жил трагедией «горя от ума». Если Пушкин, Л. Толстой дали гениальные произведения на тему об Отечественной войне, если эпическое творчество по праву гордится непревзойденными шедеврами «Рославлева», «Войны и мира», — русская драма тускло сияет именами Свечинского, Вронченко, Федорова, кн. Шаховского, не прибавив к ним никого, кто затмил бы их!..
Н. Бродский.
[1] Волконский, С.Г., «Записки», стр. 148—49.
[2] Пыляев, «Наш театр в эпоху Отеч. войны» («Историч. Вестник», т. XIII, 647).
[3] Танеев, «Из прошлого имп. театров», стр. 45. Любопытна заметка по этому поводу Загоскина: «Парижские газеты, без сомнения, найдут (в факте увольнения труппы) доказательство, что Россия впадает в варварство. О, как можно быть просвещенным, не видя французских скоморохов». «Сын Отеч.», 1812, ч. II, №10).
[4] 3отов, «Театральные воспоминания», стр. 34.
[5] Погожев, «Столетие организации имп. моск. театров», вып. I, кн. I, стр. 170.
[6] Ibid em., стр. 171.
[7] «Вестник Европы», 1812, ч. LXIV (№13, июль), стр. 230 («Московские записки»). См. также М.К. (Кублицкого) «История оперы», стр. 242.
[8] Погожев, стр. 173.
[9] Погожев, стр. 175.
[10] Кн. И. Долгорукий, «Капище моего сердца». М., 1874, стр. 263—64.
[11] Арапов, «Летопись русского театра», стр. 216.
[12] Р. 3отов, «Театральные воспоминания», стр. 38.
[13] Писарев, «Военные письма». М., 1817, часть II, стр. 335—37.
[14] В первый раз представлено было в 1812 году, на собственной половине императрицы Елизаветы Алексеевны (Арапов, стр. 215).
[15] Арапов, стр. 226.
[16] Каратыгин, «Записки», стр. 14.
[17] Погожев, стр. 195.
[18] Арапов, стр. 226.
|
|