НАПОЛЕОН И ЕГО СПОДВИЖНИКИ.
I. Наполеон.
A. К. Дживелегова.
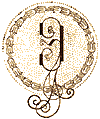
то было при Лоди, 10 мая 1796 года. Генералу Бонапарту необходимо было перейти Адду в тот же день, чтобы отрезать большой неприятельский отряд. Мост через реку защищали австрийцы, под начальством ген. Себотендорфа. Переход был почти невозможен. Себотендорф выставил против моста батарею в три десятка орудий, которая грозила засыпать картечью всякую атакующую колонну. Сейчас же за артиллерией стояла пехота. Бонапарт, тем не менее, решил завладеть переправой. Он приказал начальнику кавалерии ген. Бомону перебраться на другой берег двумя верстами выше с батареей легкой артиллерии и напасть на правый фланг неприятеля. Сам он собрал все пушки, которые у него были, и велел открыть огонь по неприятельской артиллерии. В то же время за городским валом, который окаймлял реку, он построил гренадер Ожеро в атакующую колонну. Так как австрийская пехота, укрываясь от огня французской артиллерии, отошла довольно далеко от батареи, обстреливавшей мост, то гренадеры оказались ближе к неприятельским пушкам, чем их собственная пехота. Канонада гремела без перерыва. Выждав, пока австрийские пушки, осыпаемые французскими ядрами, ослабили огонь, а Бомон нападением справа отвлек внимание Себотендорфа, Бонапарт приказал бить атаку. Голова гренадерской колонны простым поворотом налево очутилась на мосту, пронеслась через него почти без потерь, мигом овладела пушками неприятеля, обрушилась на пехоту, опрокинула ее и обратила в бегство. Себотендорф потерял, кроме артиллерии, около 2.500 чел. пленными и несколько тысяч убитыми. Потери французов составляли едва 200 чел. Ломбардия была открыта для Бонапарта. Сокрушительный удар был задуман и нанесен с такой гениальной простотой, все окружающие так горячо поздравляли Бонапарта с этой победой, что двадцатисемилетний генерал задумался самым серьезным образом. В «Memorial de St. Helene» (I, 193) мы читаем следующую фразу: «Вандемьер и даже Монтенотте
[1] еще не давали мне мысль считать себя человеком высшего порядка (un homme superieur). Только после Лоди у меня явилась идея, что и я, в конце концов, могу быть действующим лицом на нашей политической сцене. Тогда-то зародилась первая искра высокого честолюбия». То же, в несколько иных словах, повторяется в «Recits de la captivite» (II, 424): «Только в вечер сражения при Лоди я стал считать себя человеком высшего порядка и во мне загорелась честолюбивая мысль — свершить дела, о которых до тех пор я думал только в минуты фантастических мечтаний».

Наполеон-консул (Ивон).
|
Для человека, одаренного большой волей и действительно неистребимым честолюбием, прийти к такому заключению значило очень много. Время было такое, что ни одна возможность не представлялась несбыточной. Революция разрушила все преграды к быстрому движению вперед. Дарованиям всякого рода открылась широкая дорога. Особенно легко выдвигала армия, ибо армия была главным жизненным нервом и республики и революции. И кто не предсказывал в 1790 — 96 годах, что революция кончится «саблей», т.е. военной диктатурой? Бонапарту, который понимал очень хорошо родной ему дух революции и великолепно знал о предсказаниях насчет диктатуры, нужно было только уверовать в себя и в свои силы, чтобы начать линию своей личной политики, эгоистической, направленной к определенной цели, превращающей и войну, и победу, и республику, и революцию в простые средства для достижения этой цели.
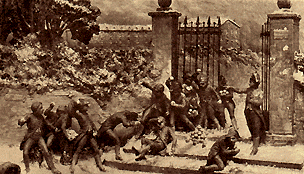
Бонапарт в Бриенской школе (1782)
|
Лоди дало ему эту веру, и в день Лоди в молодом генерале зачат был будущий император французов[2]. Многое, конечно, было необходимо для того, чтобы генерал сделался императором. И прежде всего нужно было, чтобы арена для его дерзаний оказалась свободной от соперников. В этом отношении Бонапарт был необыкновенно счастлив. Из крупных военных вождей революции к решительному для него моменту остался, можно сказать, один — Массена. Дюмурье ликвидировал себя раньше всех, Пишегрю пошел такой дорогой, которой можно было придти на гильотину, а не на престол. Гош — самый крупный, не уступавший ни умом, ни характером, ни военными дарованиями Бонапарту, умер в 1797 г. Журдан скомпрометировал себя слишком тесными связями с якобинцами. Моро, такой хладнокровно-расчетливый перед лицом врага, совсем потерял голову после брюмерского переворота и не сумел из блеска Гогенлинденской победы соткать себе ореол национального героя. Те, с которыми Бонапарту, несомненно, пришлось бы считаться: Марсо, Жубер, Клебер, Дезе, были убиты или до брюмера, как двое первых, или очень скоро после него, как оба героя египетской экспедиций: точно честолюбивая мечта Бонапарта направляла и австрийские пули и кинжал каирского фанатика[3]. Массена, оставшийся в живых, при колоссальном военном даровании, был совершенно лишен той культуры ума и характера, которая могла бы сделать из него опасного соперника для Бонапарта. Другие — Ланн, Даву, Ожеро, Бернадот, Бертье, Ней, Мюрат, не говоря уже об остальных, никогда и не могли претендовать на самостоятельную политическую роль. Из перечисленных генералов многие могли равняться с Бонапартом военным гением: Клебер, Моро, Массена, особенно Гош. Многие превосходили его красотой характера, республиканской искренностью, прямотой. Но ни у кого из них не соединялось так много талантов, необходимых для правителя, никто из них, исключая опять-таки, быть может, только Гоша, на месте Бонапарта, не сумел бы сделать большего. Гош был честнее; в нем совсем не было эгоизма. Но зато он был лишен спартанского беcстрастия Бонапарта и его стоической выдержки: он был эпикуреец, поэт и раб наслаждений. В целом Наполеон был крупнее. На великой стене истории, где запечатлеваются тени титанов в человечестве, та, которую отбрасывает маленькая фигурка его, во всяком случае одна из самых грандиозных.
Нужно ли, как это делает Тэн, производить антропологические изыскания, чтобы объяснить появление Наполеона? Нужно ли вызывать тени Сфорцы, Пиччинино, Карманьолы, Гаттамелаты и других итальянских кондотьери, чтобы понять титаническую мощь Наполеона? Нужно ли выдвигать предположение, что одряхлевшая в Италии порода людей, на Корсике, как в питомнике, окрепла вновь и дала свой новейший гигантский отпрыск в лице Наполеона? Параллель с кондотьери, конечно, интересна и законна, но в ней нет элементов научного анализа. Она хороша, как интуитивное подспорье к научному анализу, — не больше. Да едва ли и есть необходимость выдвигать эту своеобразную теорию аватара. Революция сама по себе объясняет два главных момента, создавших Наполеона: и то, что он получил возможность развернуть свои сверхъестественные дарования, и то, что сделал такую волшебную карьеру. Ибо и то и другое имело параллели. Многие из перечисленных выше генералов умерли бы в нижних чинах, если бы не революция. Благодаря революции, они вытянулись во весь рост. Да не только генералы. Разве аббат Сийес мог при старом порядке мечтать сделаться тем, чем он стал теперь? Разве превращение епископа Отенского в герцога Дино и князя Беневентского не было тоже чудом, возможным лишь благодаря революции? А если говорить о карьере, то ведь революция вознесла не только Наполеона. Сульт едва не сделался королем португальским, Бернадот основал династию в Швеции, Евгений Богарне стал родоначальником герцогов Лейхтенбергских. Психологически и политически Наполеон создан революцией, и нет нужды тревожить память кондотьери для объяснения его.

Карло Бонапарте,
отец Наполеона
|
Бывают гениальные люди, лишенные характера, воли, работоспособности. Бонапарту все это было дано щедрой рукой. Поэтому мысли, зарождавшиеся в его голове, сейчас же начинали претворяться в действительность, и не было того препятствия, которого он не мог бы одолеть. Именно эта печать действенного гения, несокрушимой воли, направленной огромным умом, которую окружающие видели на его челе, создавала ему его власть над людьми. В нем не было того непроизвольного, не зависящего от человека обаяния, которое как-то само собой покоряет всех, без того, чтобы приходилось делать усилия. Но когда он хотел, он становился неотразим, и не было человека, который устоял бы против него. Когда его назначили главнокомандующим итальянской армией в 1796 году, генералы, которые были старше его, решили между собою проучить «выскочку» при первой же встрече. Ожеро, головорез и забияка, не знавший, что значит оробеть при каких бы то ни было условиях; Массена, человек огромного самообладания и безумной смелости; Серрюрье, Лагарп, герои, видевшие не раз смерть лицом к лицу, составили своего рода заговор против «молокососа». Когда они выходили после первой аудиенции, они были сконфужены. Ожеро, удивленный тем, что произошло, говорил Массене, разводя своими длинными руками: «Не могу понять, что со мной сделалось: только я никогда ни перед кем не приходил в такое смущение, как перед этим маленьким генералом». Массена молчал, ибо ощущал то же. Зато позднее и Ожеро, и Массена, и все, кто был под его командой, по одному его слову делали чудеса. Под Арколе, когда в первый день боя Бонапарту необходимо было форсировать переправу, чтобы напасть с тылу на Альвинци, когда он сам, схватив знамя, бросился на мост, осыпаемый австрийскими пулями, — кто только не поспешил выручать его. Несчастный Мюирон, который тут же был пронизан пулями, прикрывая его; Ланн, раненый перед тем, трижды ранен снова в то время, как бросился к нему на помощь. Генерал Робер убит, Виньоль, Белиар ранены. И это неотразимое обаяние действовало на подчиненных еще долго потом. Стоило Наполеону в разгар боя кинуть фразу Мюрату, и тот, бросив на руки адъютанту свою шляпу с чудовищными страусовыми перьями, весь сверкая золотом, с одним хлыстом в руке, летел на врага во главе своих кирасир, опрокидывал кавалерию, врезывался в каре, сметал все на своем пути, словно застрахованный от пуль и картечи. И Мюрат вовсе не был исключением. Не только храбрецы, как Ланн или Ней, не только спокойно-мужественный Даву, но и Мармон, не любивший рисковать собой, и Бернадот, который перед каждой атакой соображал, что она может ему принести, — делали то же. Мутон чуть не в пять минут брал приступом город, Марбо в темную, бурную ночь переправлялся через Дунай, чтобы привезти «языка», «ворчуны» старой гвардии умирали, но не сдавались. И все без исключения бывали на верху блаженства, получив в награду ласковый щипок за ухо. Наполеон был так уверен, что для него его маршалы и генералы сделают невозможное, что полагался на самое смелое их заявление. Под Аустерлицем он спрашивает Сульта, сколько времени ему нужно, чтобы занять Праценскую возвышенность, т.е. пункт, от обладания которым зависит успех его плана. «Двадцать минут самое большее», отвечает тот. «Тогда подождем еще четверть часа», спокойно говорит император, хотя он знает, что Даву изнемогает на правом фланге. И Сульт сдержал свое обещание. Когда ему нужно было покорить человека, он пускал в ход все свои чары, и никто, за редкими исключениями, не умел устоять против них, даже холодно-расчетливый Меттерних, даже «византиец»-Александр. Сила обаяния стала падать, когда сам Наполеон отяжелел и начал надеяться, что богатства и почести могут делать то, что делали прежде любовь и преданность. Между тем новая метода, наполняя сознанием личного благополучия, вселяла опасение, что это благополучие не будет использовано до конца, порождала эгоистические чувства, вытравляла порыв, отнимала энергию и очень часто, особенно в период упадка, когда переставал действовать еще один стимул — страх, отдаляла от Наполеона самых близких людей, безумно любивших его раньше. Стоит вспомнить безобразную сцену в Фонтенебло в дни отречения, когда маршалы, утратившие страх и не рассчитывающие больше ни на новые богатства ни на новые почести, толкали императора на путь бесславия.

Бонапарт (Давида)
|
Обаяние Наполеона тем и было непохоже на обаяние других людей, что в нем причудливо и капризно преломлялись лучи гения. Их было много, этих лучей, и трудно сказать, какой из них был ярче, какое дарование господствовало. Мы не можем долго останавливаться на Наполеоне, как полководце: этот вопрос составляет содержание особой статьи. Только для того, чтобы полнее осветить весь его облик, приходится в нескольких словах коснуться и его военного гения. Здесь, как и во всем, поражало соединение двух трудно-соединяющихся вещей: творческой, если только можно воспользоваться этим словом, силы и самой кропотливой черной работы. Чтобы сделать итальянскую армию способной быть орудием своей молниеносной тактики, он прежде всего одел, обул, накормил ее и снабдил всем необходимым. Чтобы добиться этого, он во все входил сам: пробовал хлеб, мясо; смотрел кожу для сапог, сукно для шинелей, седла; вымерял размер груди и длину в рубахах; безошибочно определял, сколько сена ворует подрядчик; всех приструнивал, всех подтягивал. И когда все было готово, грянули один за другим: Монтенотте, Миллезимо, Мондови, Лоди, Кастильоне, Арколе, Риволи, Тальяменто... Одно обусловливалось другим. В этом была его система. Для него не существовало скучных вещей в военном деле. «Ваши донесения о штатах читаются, как прекрасная поэма», пишет он генералу Лакюэ. И нет ни одного уголка в сложном военном механизме, который представлял бы для него какие-нибудь секреты. «На войне нет ничего, — говорит он, — чего я не мог бы сделать сам. Если нет никого, кто мог бы приготовить порох, я приготовлю его; лафеты для пушек, я их смастерю; если нужно отлить пушки, я велю их отлить»...[4] Он был и собственным начальником штаба и собственным главным интендантом. А в стратегическом маневрировании и тактическом ударе он творил, как художник. Мы видели, как была выиграна битва при Лоди. Кастильоне, где решилась судьба первой кампании Вурмзера, явилось результатом гениального маневрирования, которое дало Бонапарту возможность уничтожить втрое сильнейшего врага. То же было и при второй кампании Альвинци, завершившейся Риволи. Французской кампании 1814 года, где Наполеон был в десять раз слабее союзников, наступавших на него (60 тыс. против 600 тыс.), и где он все-таки одерживал над ними такие блистательные победы, как при Монтеро и Шампобере, где каждое его поражение было все-таки шедевром, — этой кампании одной было бы достаточно, чтобы покрыть неувядаемой славой любого полководца. А наполеоновская тактика? Арколе, которое действительно было чем-то в роде песни Илиады, Риволи, Тальяменто, Пирамиды, Фавор, Абукир, потом Маренго, Ульм, Аустерлиц, Иена, Фридланд, Ваграм. Мир весь затихал в страхе, когда он, как буря, проносился по Европе во главе своих железных легионов, серым пятном выделяясь на фоне золотых и красных мундиров своего штаба, не зная, что такое неудача. Словно богиня победы была прикована к колесу пушечного лафета и не могла отлететь от великой армии, словно сама Фортуна была маркитанткой у гренадер Удино. Таким древние скандинавы представляли себе Одина во главе «неистового воинства», когда он, верхом на своем восьминогом белом коне, летал по воздуху, сокрушая все на своем пути.
Из всех наполеоновских сражений едва ли не наиболее типичным был Аустерлиц, ибо в нем сказывается лучше всего настоящая наполеоновская манера. 30 ноября 1805 года, когда он уже отступил от Праценских высот и разгадал обходное движение неприятеля против его правого фланга, он выехал обозреть местность и сказал окружающим, глядя на Праценскую возвышенность: «Если бы я хотел помешать неприятелю обойти мой правый фланг, я занял бы позицию на этих превосходных высотах. Тогда у меня получилось бы самое обыкновенное сражение. Правда, у меня было бы преимущество в позиции. Но, не говоря уже о том, что я рисковал бы начать дело уже 1 декабря (т.е. пока не подошли ожидаемые в ночь на 2-е подкрепления), неприятель, видя нашу позицию перед собой, сделал бы только мелкие ошибки. А когда имеешь дело с генералами, мало опытными в большой войне, нужно стараться пользоваться ошибками капитальными». И вместо того, чтобы оставаться на отличных позициях Праценской возвышенности и вызвать союзников на фронтальную атаку, которая, несомненно, кончилась бы для атакующих неудачей, он очистил Працен, внушил этим неприятелю мысль о своей слабости и толкнул его на обход своего правого фланга. Это была ловушка, которая подвергала риску его самого, но она дала в результате не «обыкновенное сражение», а блистательную победу. Полк. Йорк фон-Вартенбург («Napoleon als Feldherr», I, 230) говорит, что если бы такая диспозиция была принята на маневрах, она вызвала бы против себя резкую критику, что против нее говорят вообще все основания рационального военного искусства. Наполеон решился ослабить свой правый фланг и, ослабленный, подвести его под удар превосходных неприятельских сил только в сознании того, что неприятель наделает достаточно «капитальных ошибок». Так и было. Наоборот, при Ваграме, когда Асперн и Эслинг научили его уважать эрцг. Карла, он умышленно сделал «самое обыкновенное сражение», где он не рисковал почти совсем, где все было результатом точного подсчета. Этих вещей он старался избегать. Как поэт войны, он любил дать волю своей фантазии и нимало не смущался тем, что полет его фантазии покрывал трупами безбрежные поля.
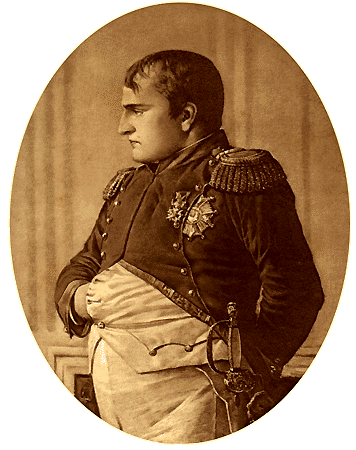
Наполеон. (Верещагина).
|
Такова была особенность его гения вообще. Он подготовлял все путем систематичной, кропотливой черной работы, а потом где-то в таинственных глубинах вспыхивала мысль, и при свете ее все сделанное раньше получало душу и художественно-законченный облик.
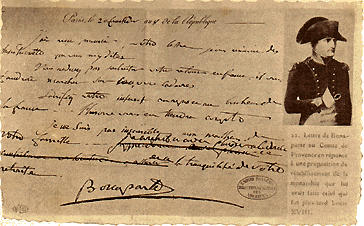
Автограф Бонапарта.
|
Работоспособность у него была совершенно нечеловеческая. Он один делал то, что было едва ли под силу сотне людей, и на войне и в мирное время. Он мог довольствоваться двумя-тремя часами сна в сутки и мог не спать совсем трое суток, как при Арколе. «Нужно было, — говорил адъютант Наполеона, генерал Рапп, — быть из железа, чтобы выдерживать все это. Мы выходили из кареты только для того, чтобы сесть верхом, и оставались на лошади иной раз десять-двенадцать часов подряд». Это относится к походу 1800 г. В 1806 г. сам Наполеон писал Жозефине: «Мне приходится делать двадцать-двадцать пять лье (т.е. до 100 верст) в день верхом, в карете и вообще по-всякому». Для того, чтобы заниматься внутренними делами государства, — он никогда не забывал о них во время походов — ему оставались ночные часы и часы, проводимые в карете. И все-таки успевал послать инструкции в Париж обо всем, кончая театральными мелочами. То же происходило и в мирное время. Достаточно просмотреть два-три его письма министрам из эпохи консульства, чтобы убедиться, как мало от дыхала эта необыкновенная голова. Вот, например, одно из посланий к военному министру: «Я желаю немедленно знать, гражданин министр: 1) какими средствами вы пользуетесь для ремонта кавалерии? 2) Получили ли генерал Гардан и другие офицеры из английской армии приказ быть на местах 24 тек. месяца? 3) Когда я получу сведения насчет нашего законодательства о производстве в различных родах войск? 4) Когда я получу доклад о современном положении артиллерийской и инженерной школ? 5) Когда я получу доклад о состоянии нашей военной юстиции? 6) Доклад об организации артиллерийских экипажей? 7) Доклад о законах, регламентах и обычаях, установленных для отчетности различных частей общественной службы? 8) Доклад о законах, регулирующих уплату жалования войскам? 9) Доклад о воинской повинности? 10) Доклад о военных наградах за 26 нивоза?». Такие же письма получали министр внутренних дел, финансов и проч. Им предписывалось ежедневно к 10 ч. вечера присылать первому консулу доклады о текущих делах по их ведомствам. Ибо, проведя день в приемах и аудиенциях, смотрах и выездах, заседаниях и работах с секретарями, устав от бесконечной деловой переписки, Наполеон поздно вечером собирал совет министров и держал их часто до свету. А когда они приходили в изнеможение и опускали свои головы на стол, он весело подбадривал их: «Ну, ну, граждане-министры, давайте просыпаться: всего 2 часа утра; нужно честно зарабатывать деньги, которые платит нам французский народ». И однажды, когда мать его, беспокоясь за его здоровье, прибегла к содействию Корвизара, его постоянного врача, Наполеон, узнавший об этом, говорил брату: «Бедный Корвизар? Он только этим теперь и занят. Но я ему доказал, как дважды два четыре, что мне необходимо занять ночь, чтобы пустить как следует мою лавочку, потому что дня не хватает. Я бы предпочел отдых, но раз вол запряжен, нужно, чтобы он работал по-настоящему». А на робкие просьбы окружающих — беречь себя, Наполеон неизменно отвечал: «Это мое ремесло, дети! Ничего не поделаешь»[5].
Разумеется, не будь у него еще и других качеств, эта титаническая работоспособность, может быть, и не приводила бы к таким результатам. Но неисчерпаемость рабочей энергии была дана ему не одна. У него была, кроме того, колоссальная память и, что еще важнее, умение быстро разбираться в каждом вопросе, даже совсем незнакомом, и сейчас же схватывать его практическую суть.
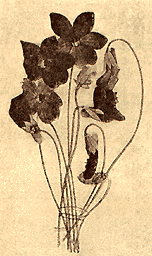
Профили Наполеона,
римского короля
и Марии-Луизы.
|
То, что он однажды узнал, он уже не забывал никогда. Мельчайшие детали войсковых штатов запечатлены у него в голове, как молитва. Однажды он читает в докладе, что корпусной командир требует для одного из своих полков 1.500 пар сапог. Он пишет: «Это смешно: в полку под ружьем всего 1.200 человек». Другой раз, просматривая отчет о количестве орудий в разных корпусах, он делает пометку, что забыли упомянуть две пушки, находящаяся в Остенде (Levy, там же). Шапталь («Souv.», 336) рассказывает, что в одной ведомости о продовольствовании войск на пути его внимание привлекла статья, где говорилось о каком-то полке, стоявшем в Фонтене. «Здесь ошибка, — сказал он генералу, представившему ведомость. — Этот полк в Фонтене не был; из Рошфора он прошел в Испанию, минуя Фонтене». Нечего и говорить, что он отлично помнил расположение всех частей не только во время войны, но и в мирное время. Такая же цепкая память была у него на финансовые вопросы, на лица, на местности, особенно на местности, и было очень трудно ввести его в заблуждение, положившись на то, что он что-нибудь забыл. Наполеон не забывал.
Даже в таких вопросах, которые были новы[6] для него, он не терялся никогда. Если что-нибудь было для него не вполне ясно, он спрашивал; спрашивал до тех пор, пока все укладывалось в его голове. На эти вещи он не жалел ни времени ни сил. «Наполеон, — рассказывает Моллиен, — работал ежедневно десять-двенадцать часов, то в разных административных совещаниях, то в Государственном Совете. Он требовал у каждого министра разъяснений по малейшим деталям; если министры не устраняли всех его сомнений, он обращался к младшим чиновникам... Нередко можно было видеть, как министры выходили из заседания, доведенные до изнеможения этими бесконечными допросами... И случалось, что, возвращаясь к себе, эти же министры находили десяток писем от первого консула, на которые тот требовал немедленного ответа. Целой ночи едва хватало, чтобы составить эти ответы».
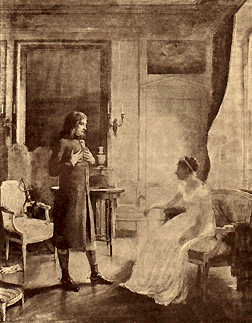
Бонапарт у госпожи Богарне (Кильон).
|
И по мере того, как он овладевал предметом, в его голове начинали происходить какие-то вспышки. Он весь отдавался полубессознательному творчеству. Он бледнел, руки его, державшие перочинный ножик, машинальными, судорожными движениями безжалостно уродовали ручки кресла, на котором он сидел, и рождаемая в страшном нервном подъеме гениальная, но простая мысль, вдруг освещала тот или другой вопрос совершенно новым светом. Ученые специалисты, свидетели этого делового вдохновения, поневоле склонялись перед силой ума «дилетанта», к которому раньше они относились свысока. Ибо, конечно, всегда, без исключения эта простая мысль именно специалистам не приходила в голову. Вот что рассказывает Тибодо о работах над Code civil в Государственном Совете. «Он говорил без малейшего затруднения, но и без претенциозности. Он не уступал ни одному из членов совета; он был равен самому даровитому из них[7] по той легкости, с какой он схватывал самую суть вопроса, по верности своих мыслей, по силе доказательств; он часто превосходил их по умению формулировать свою идею и по оригинальности своих выражений». Юристов больше всего поражало в нем какое-то необыкновенное соединение здравого смысла с полетом воображения. А происходило это потому, что он не мыслил юридическими формулами, как они, а представлял себе практический казус. И потом он всегда умел представить себе общее действие закона, его государственное значение. «Вы действуете, как кропатели законов, а не как политики», сказал он однажды своим ученым сотрудникам. Именно то, что он не упускал из виду политических задач во всяком деле и именно потому, что на политические задачи у него были взгляды определенные раз навсегда, он так легко находил ориентирующие пункты повсюду. Когда Сийес выбрал Бонапарта исполнителем своих замыслов насчет переворота, он был все-таки очень далек от мысли, что молодой генерал так скоро сделает ненужным его самого. Он просто не предполагал у него готовых политических планов. Но когда Сийес принес в консульскую комиссию свой проект конституции, и началось его обсуждение, он сразу увидел, что ему не совладать с таким противником. Конституция была принята в редакции не Сийеса, а Бонапарта. Обсуждение ее представляло шедевр, своего рода бескровный Аустерлиц, за зеленым столом. Не прошел ни один параграф из тех, которые казались неудобными Бонапарту. Сийес был так сбит с толку замечаниями своего молодого коллеги, меткими и неожиданными, что не умел отстоять самых дорогих для себя институтов. А Сийес ли не был опытным бойцом? Сийес ли не умел защищать своей карьеры? Ибо тут он знал, что карьера его рушится вместе с параграфами его конституции.
Таков был Бонапарт везде и всегда: чуткий и внимательный ко всему, неутомимый и изобретательный, с гибким и изворотливым умом, с волей, покоряющей все, с памятью, в которой все запечатлевается и из которой ничего не пропадает, с воображением, бьющим через край, с инстинктивным дарованием все приспособлять к занимающей его в данный момент цели, с той способностью, «которая творит великих художников, великих изобретателей, великих воинов, великих политиков: умением разглядеть и выделить в живом хаосе общественной жизни, в смутном рельефе местности, в запутанной интриге дипломатических переговоров, в шуме сражения — господствующий пункт, вершину и узел дела, умением ухватить убегающие линии, непрерывные сцепления, неподвижные факты, понять их основное устремление и следовать ему неуклонно» (Сорель). Если бы величие людей измерялось только умственной мощью и силою характера, едва ли нашли бы мы в истории гиганта, которому не был бы равен Наполеон, едва ли было бы способно человечество, воздвигнуть такую триумфальную арку, под которой тень его могла бы пройти не согнувшись.

Полина Бонапарт (Canova).
|
И этот колосс потерпел крушение. Разбиты были его самые дорогие мечтания. Франция, отдавшаяся ему, осталась после него истекающей кровью. Все завоевания, сделанные им, были отняты. Г-жа Сталь («Consid. sur la Rev. frang.») сопровождает такими словами рассказ о падении Наполеона: «Не было ли бы это великим уроком для человечества, если бы пять директоров, люди мало воинственные, восстали из праха и потребовали у Наполеона ответа за рейнскую и альпийскую границу, завоеванную республикой, за иностранцев, дважды приходивших в Париж, за три миллиона французов, которые погибли от Кадикса до Москвы, особенно за ту симпатию, которую питали народы к делу свободы во Франции и которая превратилась теперь в укоренившуюся ненависть». Г-жа Сталь не любила Наполеона, который ее преследовал с недостойной крупного человека мелочностью. Но в этом отрывке каждое слово — правда. И еще не вся правда.
В чем же причина этого? Поскольку ее можно свести к личности Наполеона, эту причину в самых общих выражениях можно формулировать таким образом: в том, что величие ума и характера не сопровождалось у него нравственным величием. «Он был, — сказал Токвиль, — велик настолько, насколько это возможно без добродетели». И так как этот человек-легенда невольно пробуждает воспоминания о легендах, при попытках объяснить его судьбу, теснятся сказочные образы. На празднике его рождения, где пировали феи, забыли пригласить одну — фею нравственного начала. В отместку обиженная, — в то время как другие расточали над колыбелью дары ума и характера, могущества и славы, — изрекла проклятие и поразила бесплодием нравственную природу новорожденного. Такие властители с атрофированной совестью и с затверделым сердцем никогда не бывают благодеянием для народов и часто бывают бичом для них. Когда человеку не хватает для оценки своих и чужих действий морального критерия, он берет критерием что-нибудь другое, чаще всего свою собственную выгоду. Тогда из сферы забот и попечений носителя власти исчезает все, что не есть он сам, что не есть его династия и опора этой династии — высший слой привилегированных; он забывает о бесконечном большинстве населения, о том, у которого нет никаких привилегий и которое больше всех нуждается в заботах и попечениях.
Когда Наполеон попал на Св. Елену и убедился, что он не выйдет оттуда живым, он посвятил остаток своих дней собственной апологии. Он стремился доказать, что деспотические замыслы ни разу не коснулись его ума, что он всегда жил для Франции, а не для самого себя. 16 мая 1816 г., беседуя с Ласказом о Бурбонах, он прибавил:
«Они могут уничтожать и уродовать сколько им угодно. Им все-таки будет трудно заставить исчезнуть меня без остатка. Историк Франции будет обязан коснуться империи, и если он честный человек, он укажет мою долю, кое-что отнесет на мой счет. Это будет нетрудно, потому что факты говорят; они сияют как солнце. Я засыпал бездну анархии и распутал хаос. Я обуздал революцию, облагородил народ и укрепил королей. Я возбудил соревнование во всех областях, вознаградил все заслуги и ближе придвинул границы славы. Ведь все это стоит же чего-нибудь! И потом, в чем можно меня обвинить, чтобы историк не сумел за меня заступиться? Мой деспотизм? Но историк покажет, что диктатура была настоятельно нужна! Будут говорить, что я стеснял свободу! Он покажет, что распущенность, анархия, огромные беспорядки были у порога! Будут обвинять меня в том, что я слишком любил войну? Он покажет, что на меня всегда нападали! Что я стремлюсь к всемирной монархии? Он покажет, что она была случайным созданием обстоятельств, что наши враги сами толкали меня к ней шаг за шагом. Наконец станут упрекать меня в честолюбии? О, конечно, он согласится, что я был честолюбив, и очень, но он скажет, что мое честолюбие было самое высокое, какое когда-либо существовало, и заключалось оно в том, чтобы установить и освятить, в конце концов, империю разума и полное, беспрепятственное пользование всеми человеческими способностями. И, быть может, историк еще будет сожалеть, что эти честолюбивые мечты не осуществились... Такова, — заключил Наполеон, — вся моя история в немногих словах». А вот что говорил он доктору О'Мэара 18 февраля 1818 г.:
«Система управления должна быть приспособлена к духу нации и к обстоятельствам. Прежде всего Франции нужно было правительство сильное. Когда я стал во главе Франции, она находилась в том же положении, в каком был Рим, когда понадобился диктатор для спасения республики. Английское золото создавало против Франции коалицию за коалицией. Для успешного сопротивления им нужно было, чтобы глава государства мог располагать всеми силами, всеми ресурсами нации. Я завоевывал, только защищаясь. Европа не переставала нападать на Францию и на ее принципы, и нам нужно было бить, чтобы не быть побитыми. Среди партий, которые волновали Францию с давних пор, я был как всадник на горячей лошади, бросающейся то в одну сторону, то в другую: чтобы заставить ее идти прямо, я был вынужден от времени до времени давать ей почувствовать узду. В стране, которая только что вышла из революции, которой угрожают враги извне, которую мутят изменнические интриги внутри, правительство должно быть твердым. Если бы наступило успокоение, прекратилась бы и моя диктатура, и я бы начал свое конституционное правление. Даже в том состоянии, в каком была Франция, в ней было больше равенства, чем в других странах Европы».

Летиция Рамолино,
мать Наполеона.
|
Заявления этого рода рассыпаны по всему «Memorial», по «Recits de la captivite», по мемуарам, записанным генералами. Приведенные два длинных отрывка резюмируют их довольно хорошо, и ими можно поэтому ограничиться. Потеряв надежду на возвращение власти, опрокинутый господин Европы пытается примирить с собой современников и потомство, отчасти с чисто практической целью: чтобы облегчить для сына путь к французскому трону, отчасти повинуясь идеалистическим побуждениям: создать вокруг своего имени ореол, блеск которого переживет века. К этой двойной цели он идет, как нетрудно видеть и из приведенных отрывков, двумя путями: он старается или оправдать то, что он делал, или убедить мир, что, если бы его не свалили, он излил бы на человечество и в частности на Францию реки благополучия. К обещаниям задним числом приходится прибегать тогда, когда нет возможности скрыть, замолчать неудобный факт или дать ему сколько-нибудь удовлетворительное объяснение.
Разберем же главные обвинения, которые, по мнению Наполеона, будет как нельзя легче опровергнуть будущему историку. Их четыре: страсть к войнам и завоеваниям; стремление основать всемирную монархию; деспотизм; стеснение свободы. Можно было бы подобрать еще сто четыре, но их Наполеон не вводит в свою «краткую историю». Опустим и мы их пока. Есть историки, которые по всем этим пунктам выносят Наполеону оправдательный приговор, но это достигается ценой целой системы прокрустовых лож. Беспристрастная наука судит иначе.
Сложнее всего вопрос о войнах. Наполеон уверяет, что он воевал только тогда, когда на него нападали. Это неверно. Испания не нападала на него, Россия в 1812 г. не нападала. Но не в этом дело. Внешняя политика Наполеона определялась в значительной мере факторами, лежащими вне его воли. На нее давили национальные интересы, те самые, которые давили на внешнюю политику и Людовика XIV, и революции, и давили в том же направлении. И эти интересы властно требовали войны с Англией и Австрией, чтобы заставить их устраниться с пути политического и экономического развития Франции. Но был элемент, который привходил во внешнюю политику Франции от Наполеона, как такового: его честолюбие. Оно увлекало его далеко за рамки, необходимые с точки зрения французских национальных интересов. Наиболее решительными моментами в этом отношении были переговоры с союзниками в Франкфурте осенью 1813 г. и в Шатильоне в начале 1814 г. Наполеон отверг такие условия мира, которые удовлетворяли вполне всем условиям мирного развития Франции. Почему он сделал это?
Вопрос о всемирной монархии едва ли имеет большое значение. В словах, сказанных Ласказу, Наполеон как будто не отрицает, что у него была эта гордая мечта. Для Гюго она только дополняла титанический образ:
|
... C'est lui qui, pareil a l'antique Encelade
Du trone universel essaya l'escalade,
Qui vingt ans entassa,
Remuant terre et cieux avec une parole,
Wagram sur Marengo, Champaubert sur Arcole,
Pelion sur Ossa...
|
Но в другой раз, 28 января 1817 г., на вопрос доктора О'Мэара, Наполеон отрицал это. «Моим намерением было сделать Францию более обширной, чем всякая другая страна, но я никогда не притязал на всемирную державу. Я, напр., никогда не перенес бы Францию за Альпы». Но если у него и не было твердо поставленной цели, если он и понимал невозможность сколько-нибудь прочных успехов на этом пути, то, как «случайное создание обстоятельств», он, несомненно, признавал всемирную монархию и был далек от мысли считать мечту об империи Карла Великого «бредом безумца», как называет ее Тьер. Что толкало его к этой химерической цели?

Первый консул посещает монастырь на С.-Бернар
20 мая 1800 г. (Лебель).
|
Вопрос о деспотизме тоже не разрешается так просто, как казалось Наполеону на Св. Елене. Кое в чем, конечно, он был прав. Республика при директории показала, что она совершенно неспособна справиться с затруднениями, которые терзали страну внутри и снаружи. И борьба партий, и анархическая пропаганда, и противообщественные тенденции, — все это было, и все это нужно было устранить, чтобы спасти Францию. Больше того, быть может, была нужна и диктатура. Но Наполеон опять сделал больше, чем это требовалось для страны. Ему было мало, что он задушил революцию, свою кормилицу, революцию, которая воздвигла ему пьедестал для его карьеры, которая вспахала и засеяла поле славы, на котором он так легко собрал всю жатву. Ему было мало, что он конфисковал без остатка все ее наследие в свою пользу. Он захотел прежде всего титула, как будто титул мог прибавить что-нибудь к славе победителя Риволи и Маренго, создателя Гражданского Кодекса, умиротворителя страны. «Зачем ему нужно, — говорил Поль Луи Курье (Oeuvres compl., 1849 г., стр. 242 — 243), — ему, солдату, военачальнику, первому полководцу мира, чтобы его называли величеством»? Быть Бонапартом и сделать себя государем! Он хочет низойти? Нет, он думает стать выше, сравнявшись с королями. Титул он предпочитает имени. Бедняга! У него больше счастья, чем ума! Я подозревал это, когда узнал, что он отдал свою сестру за Боргезе и считал, что Боргезе оказывает ему слишком большую честь! Цезарь гораздо лучше понимал эти вещи, и он был другим человеком. Он не взял заезженного титула: из своего имени он сделал титул более высокий, чем титул царей». Но и титула одного ему оказалось мало. Он захотел стать основателем династии, захотел, чтобы в жилах его потомства кровь поручика артиллерии смешалась с кровью самой древней и самой благородной династии Европы. Где источник этих фантазий, превратившихся в действительность?
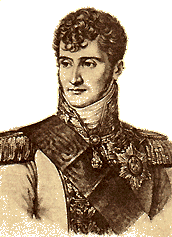
Жером Бонапарт.
|
Вот, наконец, пункт о свободе, тот, о котором историки-панегиристы обыкновенно предпочитают молчать. «Стеснение свободы» бывает всякое. Обуздать анархию было нужно; не лишним было унять якобинцев, ставших обыкновенными клубными крикунами, давно потерявших связь с социальной почвой; наложить узду на роялистов, которые, пользуясь бессилием власти, вносили дезорганизацию в общественную жизнь, было необходимо. Но разве только в этом были стеснения свободы при консульстве и особенно при империи? Свобода французского народа, плохо ли, хорошо ли, охранялась конституцией. Наполеон никогда не считался с. этой конституцией, когда она ему мешала. Нужны были ему налоги вне рамок, разрешаемых конституцией, он их взимал. Боялся он, что война не будет одобрена парламентом, он его не спрашивал о войне. Мешали ему вообще палаты, он их отсрочивал. Гласность становилась для него стеснительной, он делал знак Фуше, и тот обращался с гласностью, как с герцогом Энгиенским. В акте сената, низлагающем Наполеона, имеется на этот счет такой пункт:
«Принимая во внимание, что свобода печати, установленная и освященная в качестве одного из неотъемлемых прав народа, постоянно была подчинена произвольной цензуре его полиции; что в то же время он постоянно пользовался печатью, чтобы наполнять Францию и Европу искаженными фактами, ложными принципами, доктринами, благоприятными деспотизму, оскорблениями иностранных правительств; что акты и доклады, слушавшиеся сенатом, подвергались при опубликовании изменениям»... Тут уже не об анархии дело идет, а о вещах совсем иного порядка. И Наполеон, конечно, очень хорошо это понимал и на Св. Елене. Ибо иначе ему не зачем было бы отводить взоры современников и потомства от кровавых следов деспотизма, от застенков Фуше и Савари, от келейных судов, от лабораторий насилия, и прикрывать незажившие еще раны на теле свободной Франции заявлениями, что он уже совсем собирался стать конституционным правителем и ждал только «успокоения». Разве не поучительны эти заведомо лживые уверения, которым авторы их, будь то великий Наполеон или пигмеи деспотизма, верят меньше, чем кто бы то ни было? И мы отлично знаем, как Наполеон ждал успокоения. Перед походом в Россию весной 1812 г. он беседовал в Дрездене с Меттернихом (Memoirs, т. I, 120), и вот какие мысли сообщал ему о наилучшей форме правления для Франции. «Франция меньше приспособлена для форм представительства, чем многие другие страны. В Трибунате только и занимались, что революцией; поэтому я навел порядок: я распустил его. Я надел намордник (un baillon) на Законодательный корпус. Заставьте замолчать собрание, которое, чтобы играть какую-нибудь роль, должно заниматься обсуждением дел, и вы его дискредитируете. Мне только и остается, что положить в карман ключ от залы заседаний, и с Законодательным корпусом будет кончено. Никто не вспомнит о нем, потому что о нем уже забыли при его существовании. Но я все-таки не хочу абсолютной власти. Я дам новую организацию сенату и государственному совету. Первый заменит верхнюю палату, второй — палату депутатов. Сенаторов по-прежнему я буду назначать всех. Треть членов государственного совета будет выбираться трех степенными выборами, две трети будут назначаться мной. Это будет настоящее представительство, потому что оно все будет состоять из людей опытных. Не будет ни болтунов, ни идеологов, ни поддельной мишуры. Тогда Франция станет страной, которая управляется хорошо даже при ленивом государе; а такие у нее будут; для этого достаточно одного способа их воспитания». Если Наполеон говорил О'Мэаре о таком «конституционном правлении», то, пожалуй, Франция потеряла мало, променяв наполеоновских пчел на бурбонские лилии. Что касается ссылки на то, будто во Франции было больше равенства, чем где бы то ни было, то она, может быть, и справедлива, но при Наполеоне это равенство потеряло всякий смысл, ибо стало равенством порабощения. Сам Беранже, бард Империи, должен был признать это. Он говорит: «Мое полное энтузиазма, постоянное преклонение перед гением императора, мое идолопоклонство никогда не ослепляли меня на счет все возрастающего деспотизма империи». Должно же быть какое-нибудь объяснение всему этому.

Люсьен Бонапарт.
|
Причины, конечно, были, и их нужно искать в нравственной организации Наполеона. Шатобриан (Mem. d'outre tombe, IV, 54) в двух словах дает ключ к объяснению непонятных на первый взгляд действий Наполеона. «Чудовищная гордыня и беспрестанная аффектация, — говорит он, — портили характер Наполеона». И это глубокая правда. Чтобы тешить эту непомерную гордыню, он наступает своим тяжелым сапогом, который тоже несет в себе частицу от революции, на шею легитимнейших монархов Европы. Он срывает с их голов короны и бросает своим маршалам в награду за удачную кавалерийскую атаку, за хорошо выполненную диспозицию. Он заставляет королей дожидаться у себя в приемной, толпиться у подножия своего трона, целовать свою шпору; обращается с ними грубее, чем со своими гренадерами. Ему сладко сознавать, что король прусский и император австрийский дрожат перед ним, боятся, чтобы он не отнял остатки их владений, не выбросил их самих за окно, как какого-нибудь неаполитанского короля. Он чувствует, что его дерзаниям в Европе нет пределов: он расстреливает французского принца без всякого повода, без всякой необходимости, только для того, чтобы показать, что это ему ничего не стоит, что он безнаказанно может совершить самое вопиющее преступление. Он делает главу католического мира чем-то вроде своего капеллана. Он требует в жены австрийскую эрцгерцогиню, и ему не смеют отказать в ее руке; будь он настойчивее, он получил бы руку русской великой княжны. Он дарит сестрам по герцогству на булавки, бездарных братьев сажает на королевские троны. Словом, разыгрывает из себя Провидение на все лады. И сокрушается, что не может заставить народы по-настоящему почитать себя, как Бога. «Я явился слишком поздно, — жалуется он адмиралу Декре. — Нельзя свершить ничего великого. Согласен: карьера моя хороша. Я прошел прекрасный путь. Но какое различие с древностью! Вспомните Александра: когда он завоевал Азию и объявил себя сыном Юпитера, ведь за исключением Олимпии, которая знала, как к этому относиться, да еще Аристотеля и нескольких афинских педантов, ему поверил весь Восток! Ну, а если бы мне пришло в голову объявить себя сыном Предвечного и воздать ему преклонение в качестве такового? Ведь последняя торговка захохочет мне в глаза. Нет! Народы теперь слишком просвещены! Ничего не сделаешь!» Гордыне и аффектации некуда было идти дальше, и они действительно отравляли все, что было благородного в Наполеоне. Альбер Сорель, набросав его характеристику в расцвете его сил, в 1795 г. прибавляет: «Ни сердечные волнения, ни угрызения совести не стесняют в нем государственной точки зрения, единственной руководительницы его действий. Одни страсти, доведенные до экстаза, затемнят ее со временем. Эгоизм, равный гению — такого же размаха и такой же необъятности, ненасытное опьянение боевым хмелем, потребность поглотить все, чтобы над всем господствовать, колоссальное «я» — неудержимое, деспотичное, беспощадное, — не пронизывают его и не владеют им еще». Все это явилось очень скоро: вместе с императорской мантией и титулом «величество», после Аустерлица и Тильзита. Быть может, самым существенным выводом такого настроения было то, что Наполеон, выкормок революции, отлично понимавший ее социальный смысл[8], сам поднятый волной национального подъема, совершенно исключил народ из своих политических расчетов. Он был так уверен, что время народных движений прошло, раз он стал во главе Франции, что совершенно забыл о существовании народа в других странах. И еще на Св. Елене он называет народ не иначе, как canaille; и хотя Ласказ тщательно отмечает, что это только способ выражения, а не взгляд, но это характерно. И еще больше характерно то, что он так до конца и не понял вполне, что его блистательная карьера потерпела кораблекрушение именно благодаря этой canaille, которую его деспотизм и его гордыня сделали гражданами, по крайней мере, на время: в Испании, в Пруссии, в Тироле, в России. Когда монархи выводили армии старого порядка против его маршалов и его солдат, он их бил одну за другой. Когда же он начал вторгаться в сердце неприятельской страны и попирать самые дорогие чувства народов, народы восстали, армии стали вооруженными народами, как во Франции при Конвенте и Директории. И против этой могучей национальной волны не устоял Наполеон, потому что в его армии уже не было прежнего национального духа. Он полагался только на свой гений, а гений не устоял перед «дланью народной Немезиды».
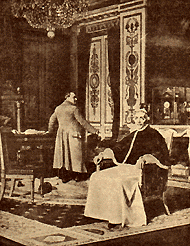
Пий VII и Наполеон
в Фонтенебло (Франка).
|
Добившись власти, он весь свой гений положил на то, чтобы караулить ее. Не беречь, не охранять, а именно караулить: чтобы ее не отняли у него так же внезапно и неожиданно, как он сам отнял ее у республики. Гений вянет, когда из него делают такое употребление. И, разумеется, из души его очень быстро улетучились лучшие человеческие чувства. Они плохо уживаются под порфирой, особенно под такой, которая непрочно держится на спине ее обладателя. Бурьен рассказывает: «Одним из самых больших несчастий Бонапарта было то, что он не верил в дружбу и не испытывал потребности любить. Сколько раз говорил он мне: «Дружба — это звук пустой; я никого не люблю, даже моих братьев. И я знаю, что у меня нет настоящих друзей. Пока я — то, чем я теперь, друзей по виду у меня будет сколько угодно». При таком взгляде трудно уважать людей. Наполеон презирал их. Тот же Бурьен записал его изречение: «Два рычага двигают людьми: страх и выгоды». Поэтому он осыпал золотом тех, кто был ему нужен, особенно своих маршалов, и не жалел бичей и скорпионов, если считал кого-нибудь опасным. И мы знаем, к чему это приводило. Купавшийся в богатстве и почестях Бертье, сделанный королем Мюрат, осыпанные всеми благодеяниями Мармон, Ожеро, Макдональд, Виктор все-таки изменили ему. А как они были ему нужны! Сколько раз на Св. Елене он говорил: «Будь у меня при Ватерлоо начальником штаба Бертье, я не проиграл бы сражения!»
«Будь у меня при Ватерлоо Мюрат, чтобы вести кавалерию, я не был бы побежден!» Что же побуждало этих людей быть неблагодарными? То, что они уже не любили его. То, что он считал себя в праве, облагодетельствовав их всячески, быть с ними грубым и резким, третировать их, своих братьев по оружию, своих товарищей, со многими из которых он был прежде на «ты», как прислугу. Он умел оскорблять их как-то особенно больно, задевая самые чувствительные струны. Когда Даву советовал ему под Бородином обойти русскую армию, он грубо оборвал его: «Вечно вы со своими обходами! Ничего другого не умеете посоветовать!» А обстоятельства показали, что герой Ауэрштета подавал ему яблоко с древа познания. Сульт под Ватерлоо предостерегал его, говоря, что Веллингтон — нешуточный противник. «Ну, конечно, — перебил его Наполеон. — Он побил вас раза два, вот вы и боитесь его!» С Ланном он устроил самую настоящую гадость: подбил его на растрату, обещав, в качестве первого консула, дать ордер на нужную сумму. И обманул: ему нужно было добиться, чтоб Ланн перестал говорить ему «ты». А чего только не терпел бедный Дюрок! Это все друзья, люди, без которых он не мог обходиться. С обыкновенными смертными, мужчинами, женщинами, даже детьми, он совсем не стеснялся. Детей он ласкал тем, что размазывал им во время обеда соус от кушаньев по физиономиям. Он мог говорить дамам: «А мне рассказывали, что вы хорошенькая! Какой вздор!» Тут «гордыня» соединялась с отсутствием воспитания и природной, истинно-корсиканской грубостью.
Когда же сюда примешивались эгоистические опасения за собственную судьбу или хотя бы только за свою славу первого полководца, получались факты несколько иного характера. Ревнивая подозрительность Наполеона отняла у Франции шпагу Моро, побудила в 1812 г. оставить дома Массену, гениальнейшего из маршалов империи. И Моро в 1813 году учил союзников, как бить непобедимого, а Массена командовал где-то жалким гарнизоном вместо того, чтобы вести войска к победам, как при Риволи, при Цюрихе, при Ваграме[9]. И даже, когда уже все было кончено для него, на Св. Елене, Наполеон старается умалить таланты своих маршалов, представить их посредственностями, слава которых тонула бы без остатка в лучах его собственной славы.
Так, «гордыня» и «эгоизм, равный гению», порождали мизантропию и пессимизм, порождали политику подозрительности и недоверия. Эта политика, конечно, никогда не достигала тех целей, каких хотел Наполеон. Она только умаляла его фигуру, накладывала на нее какую-то мрачную, зловещую тень и, в конце концов, не уберегла его от Св. Елены.
Наполеон, разумеется, не всегда был один и тот же, как правитель. В первые годы, в эпоху консульства, когда он пробивается, когда он укрепляет свое положение, — он обнаруживает больше интереса к государственным делам, большее понимание государственной и национальной пользы. В десять лет империи, когда он укрепился и когда ему нужно оберегать и упрочивать свое положение, династическая точка зрения все больше и больше заслоняет государственную, пока не поглощает ее совсем. Душевный переворот начинается после того, как ему так цинично изменила Жозефина, — женщина, которую он, действительно, любил; после того, как в брюмерские дни он видел вокруг себя такую вакханалию беспринципности и готовности продать идеалы за чечевичную похлебку; после того, как он убедился, что моральный подъем медовых дней революции сменился в обществе страстью другого рода: страстью к наслаждениям жизни. Если бы судьба не отрезала нить его возрастающего могущества, если бы Наполеон остался на престоле еще несколько лет, тиранства второй империи, быть может, были бы изобретены значительно раньше. Эту постепенную эволюцию нужно все-таки помнить. Наполеон-консул не то, что Наполеон-император. Если бы Наполеон пал под Ульмом или Аустерлицем, когда на челе его горела слава Италии и Египта, Гражданского кодекса и финансовой реформы, образ его остался бы на скрижалях истории чистый и прекрасный, как образ Гоша, Марсо, Дезе. Но между Аустерлицем и Св. Еленой протекло десять лет. В историю прошел не тот чудесный юноша с картины Гро, стройный, с бледным лицом и горящими глазами, который со знаменем в руках, весь — порыв, весь — вера в победу, стремится на врага, а другой: тучный, с тяжелыми веками, с усталым взором исподлобья и нездоровой желтизной одутлого лица, такой утомленный, что ему трудно подняться с кресла, — Наполеон Делароша. Бонапарт эпохи Лоди и Арколе думал о Франции, обнажая шпагу. Наполеон Ваграма и Смоленска, Лейпцига и Монмираля думает только о себе. В душе его распустился махровый цветок эгоизма и задавил собой все: и любовь к Франции и «государственную точку зрения». Оттого он никогда, ни в чем: ни в войнах, ни в законодательстве, ни в управлении, не может остановиться там, где этого требуют интересы Франции и «государственной точки зрения». Он идет дальше, ибо это нужно, или кажется, что нужно, в его личных интересах, — интересах Наполеона Бонапарта и его дома.
Можно сколько угодно рыться в мемуарах, выкапывать оттуда по крупинке мелкие факты, нанизывать их на нить собственного увлечения и пробовать создать из этой операции апологию нравственного образа Наполеона, т.е. делать то, чем занимаются Масон, Леви и другие биографы-панегиристы. Из этого ничего не выйдет. Потому что, когда дело идет о таком человеке, как Наполеон, слишком мало убедить людей, что он обладал целым рядом мелких буржуазных добродетелей, что он любил мать, жену, сестер, не всегда был неблагодарен и проч. Это годится для какого-нибудь Луи-Филиппа. Защищая Наполеона, мы должны доказать одно: что его гений служил только «Франции милой», только ее процветанию, только ее могуществу, а не собственному его честолюбию; что в нем, как в Гоше, в Дезе, в Гарибальди, воин неотделим от патриота. Именно эти положения недоказуемы.
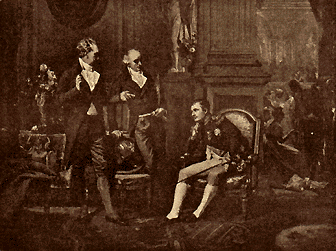
Наполеон, Гёте и Виланд в Эрфурте.
|
Тогда — этот вопрос задается обыкновенно панегиристами — чем объяснить, что до сих пор во Франции существует целый культ Наполеона, складываются наполеоновские легенды, появляются драмы, романы и поэмы о Наполеоне, пишутся картины... Ведь, если Наполеон душил Францию своим деспотизмом и ежегодно бросал на жертвенник своего честолюбия сотни тысяч ее сынов, она должна была бы ненавидеть его в тысячу раз больше, чем его преемников. А она его обожает. Значит, он искупил свои преступления?
Тут перед нами общественно-психологическая загадка. Приходится сказать: да, он искупил. Но необходимо прибавить: преступления, которые искупаются, не перестают быть преступлениями. Чем же он искупил их?
Прежде всего, той славой, которой он окутал Францию, как сверкающим золотым облаком. Наполеоновская легенда начала складываться при реставрации, т.е. в эпоху, когда страна испила до конца горечь унижения. Вторая империя, когда именем Наполеона творились последние гнусности, когда наполеоновская треуголка очутилась на голове проходимца, — явилось некоторое отрезвление. Но с тем большей силой расцвела легенда при третьей республике, после нового удара, отбросившего восточную границу еще дальше от Рейна. Франция, баловень славы, в течение нескольких десятилетий, не выходила из полосы бесславия. Что удивительного, если ее потянуло к тем временам, когда именем ее были полны оба полушария, когда ее орлы летали из Мадрида в Москву и в Гамбург из Каира? Что удивительного, если страна, склонившись перед Вандомской колонной, простирая руки к бронзовой фигуре императора, кричала ему в экстазе: «Возьми нашу свободу, верни нам славу!»
И потом, когда люди под влиянием воскресших восторгов, начинали осматриваться кругом и подводить итоги тому, что осталось у Франции от Наполеона, они с удивлением и с радостью видели, что Франция живет еще творениями императора. Видит это и наука. Административные учреждения империи, в которых дух революции пропитал насквозь и обновил организацию старого порядка, в которых сохранилось все ценное из прежнего, а новое, внесенное революцией дало гарантию прочности — были делом Наполеона. Они до сих пор в общем сохранились в государственном обиходе страны. Конечно, и в управлении, и в полиции, и в школе многое преобразовано, но дух Наполеона еще живет в них. Нечего говорить, что одного Гражданского Кодекса, Code Napoleon, было бы достаточно, чтобы составить славу для законодателя. Потом финансы. Наполеон застал финансовое управление в таком состоянии, что правительство посылало занять денег в кассу оперы, чтоб послать курьера в армию. Наполеон при помощи Герена все привел в порядок. Ни разу при нем, несмотря на огромные военные расходы, не было заключено ни одного займа, никогда бюджет не сводился с дефицитом вплоть до последнего, на 1813 г., который был исполнен без помехи. И когда английский фрегат Northumberland вез императора на Св. Елену, Франция, изнуренная столькими передрягами, была все-таки самой богатой страной мира. Новый общественный строй, новое распределение собственности, созданное революцией, он укрепил так, что Бурбоны, при всей ярости эмигрантов, были не в состоянии предпринять социальную реставрацию. Миллиард, который правительство выколотило из народа и роздало дворянам, ярче, чем что-нибудь, свидетельствует о бессильной злобе людей старого режима. И никто иной, как Наполеон воздвиг вокруг нового социального порядка ту железную решетку, о которую поломали себе зубы Людовик XVIII, граф Артуа, Полиньяки, Виллели и как они еще там называются.
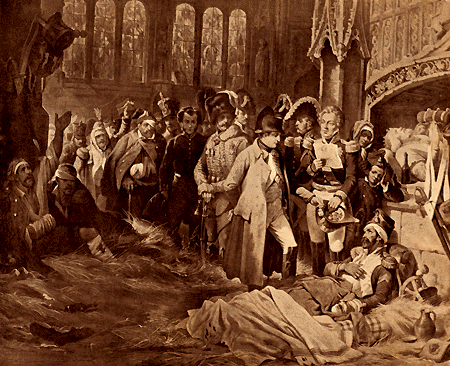
Наполеон посещает раненых.
|
А если бросить взгляд на Европу? И там следы деятельности Наполеона. Италия, объединенная впервые, узнавшая, что можно отделываться и от папы и от чужеземцев, мешающих ей слиться в одно. Германия, сомкнувшаяся, освободившаяся от бесконечно малых имперских территорий, камнем висевших на объединительных стремлениях ее буржуазии. Пруссия, развязавшаяся с самыми тяжелыми сторонами феодализма. Юго-славянские племена, потянувшиеся одно к другому под знаменем иллиризма. Испания, сбросившая с себя ярмо инквизиции и нашедшая путь к конституционному порядку. Южно-американские республики, стряхнувшие ненавистное испанское иго. Наконец, введение Гражданского Кодекса, разрушение феодальных цепей повсюду, где было можно; произведенный континентальной блокадой промышленный подъем. Все это — хорошие титулы на славу и на признательность.
Due secoli,
L'un contro l'altro armato
Sommessi a lui si volsero,
Come aspettando il fato
E fe silenzio ed arbitro
S'assise in mezzo a lor[10]
(Манцони).
|
Разумеется, ни во Франции, ни в Европе Наполеон не мог сделать больше того, что подсказывалось духом времени, что намечалось социальным развитием, что прокладывалось революцией. Его деятельность пошла на пользу буржуазии, тому классу, героем которого он был. Как сын революции, он разрушал всюду феодальный уклад, и расчищал дорогу для победного шествия третьего сословия. И если европейская буржуазия культивирует наполеоновскую легенду всюду без различия национальностей, она воздает этим бессознательную дань признательности человеку, так много сделавшему для нее. Этим отчасти и объясняется, что так легко забыто все остальное. Но тут есть еще одна причина.
Если люди охотно прощают все зло, которое Наполеон-император сделал Франции, то это потому еще, что в катастрофе, к которой он привел страну, один из самых тяжких ударов достался ему самому. У него была своя Голгофа — Св. Елена; у него были свои Иуды без числа, начиная от Талейрана и Бернадота и кончая Мармоном и Ожеро; у него был свой палач, лютый и свирепый, как сорок тысяч палачей испанской инквизиции: Гудсон Лоу. Когда трагическая эпопея последних шести лет жизни Наполеона дошла до Франции в простых, безыскусственных повествованиях Ласказа, О'Мэары и генералов, взрыв негодования, сострадания, самой простой, по человечеству, жалости был таков, что после него не осталось никаких укоров, рассыпались все обвинения, смолкла сама справедливость.
Поэты, глашатаи народных чувств, принесли ему отпущение. Пушкин сказал:
|
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит...
|
Гюго повторил:
|
Les peuples alors, de l'un a l'autre pole,
Oubliant le tyran, s'eprirent du heros...
|

Ф. Штук. «Посвящается
великому артисту Э. Поссарту».
|
Притом, не просто героем, а героем, которого замучили и заплевали пигмеи. Ему Европа была мала для размаха, а он был брошен, на крошечную скалу, заблудившуюся в океане, да и на ней еще ему начертили пределы движения; когда он подходил к этим пределам, он видел перед собой вызывающую улыбку английского часового, и не было с ним Дюрока и взвода старой гвардии, чтобы разогнать мелькавшие всюду назойливые красные мундиры. Он потрясал миром, играл судьбами народов, из королевских тронов делал какие-то бирюльки, и это утоляло порой его титаническую энергию. Теперь ему предупредительно предлагали для наполнения досугов заняться мемуарами и садоводством. Он любил считать свои дивизии, колеса той живой колесницы, на которой он въезжал триумфатором в столицы Европы; здесь он считал белых чаек, реявших над океаном. Он, кому император Австрии не посмел отказать в руке своей дочери, терпел недостаток во всем и перелицовывал свой старый зеленый мундир. Его, великана, насмерть пронзенного мечом, беспрестанно донимали мелкими булавочными уколами. «Мне нужно было умереть под Ватерлоо», жаловался он близким. «Вы думаете, что английское правительство решило держать меня здесь до смерти?» тревожно спрашивал он у одного англичанина, навестившего его. «Боюсь, что да». — «Тогда я умру скоро». И было грустное спокойствие в ответе... Он ходил в своей гранитной клетке, живой только воспоминаниями, и «пролетавшие орлы его не узнавали». Смерть приближалась...
Un jour enfin il mit sur son lit son eрeе,
Et se coucha pres d'elle et dit: c'est aujourd'hui.
On jeta le manteau de Marengo sur lui.
(Гюго).
|
Елена для славы Наполеона была как чистилище. Все тяжелое, мрачное, вероломное, все неискреннее и неправое было сброшено там, прилипло к Гудсону Лоу, как замогильное проклятие императора. При Наполеоне остался один его гений, одно величие.
Это — для общества, главным образом, буржуазного. Наука, которая никогда не увлекается и никогда не поддается опьянению, твердо помнит факты. Наука не может забыть некоторых вещей: гнусностей Фуше, виртуозностей деспотизма, «намордников» всякого рода, постоянных нарушений закона, застреленного герцога Энгиенского, изгнанного Моро, отодвинутого Массену, ненужных войн и тысячей тысяч загубленных жизней. Наука отмечает, как важнейший вывод истории Наполеона, что даже он, «муж рока», который осаждал своими фантазиями Провидение, и из своих капризов делал законы для человечества, — даже он при всем своем колоссальном гении, потерпел крушение только потому, что свои личные интересы поставил выше интересов страны, доверившей ему свою судьбу. Ибо власть подточила гений. Наука признает то, в чем он был велик. Но она должна сказать, что трон этого человека с железной поступью, выкованный на пороховом огне, был сложен из человеческих костей, и что среди этой груды были не только кости погибших на войне...
А. Дживелегов.
[1] О 13 вандемьера см. т. I, в статье «Революция и Бонапарт». Монтенотте — местечко в Пьемонте, где Бонапарт одержал первую решительную победу над соединенной австро-сардинской армией Болье. Союзная армия, как гигантской бритвой, была разрезана на две части: австрийцы отброшены в Ломбардию, сардинцы — к Турину. Потом он бил их отдельно.
[2] Немного больше году прошло между Лоди и Леобеном, а Наполеон уже обнаруживает очень большую предусмотрительность. Французские республиканцы громко аплодировали ему, когда он ответил австрийским уполномоченным на их предложение признать республику: «Республика, как солнце! тем хуже для тех, кто ее не видит». Именно, республиканцам нужно было радоваться этой фразе меньше, чем кому-нибудь, ибо она была сплошь лицемерие. Потом Наполеон объяснил, почему он не хотел формального признания. Он боялся, как бы не вышло затруднений со стороны Австрии в тот момент, когда республика должна была перестать существовать.
[3] Соучастие Бонапарта в убийстве Клебера, конечно, басня, измышленная его врагами.
[4] A. Levy, «Napoleon intime», ed. Nelson, стр. 481 след.
[5] Levy, «Napoleon intime», кн. VII, passim.
[6] Образование, полученное им, было недостаточно для того положения, которое он занял, а читал он, хотя и много, но очень беспорядочно.
[7] А там сидели такие светила, как Порталис, Тронше, Реаль и сам Тибодо.
[8] «Французская революция была всеобщим движением массы народа против привилегированных. Главной целью революции было разрушение привилегий и злоупотреблений. Она хотела уничтожить вотчинные суды, упразднить остатки крепостничества, подчинить всех одинаково государственному тяглу... Половина земельной территории переменила собственников». (O'Meara, Napoleon dans l'exil, 135).
[9] На Св. Елене Наполеон оправдывается тем, что Массена был болен и ослабел. Как-будто при Ваграме, раненый, не выходивший из коляски, герой не творил чудеса!
[10] Два века, стоя в полном вооружении один против другого, обратились к нему. Воцарилось молчание, и он судьей сел между ними.